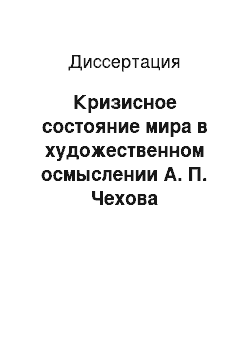Насущность проблематики, связанной с понятием кризис, не нуждается сегодня в специальных обоснованиях. О кризисе говорят ныне представители почти всех областей знания. Социологи констатируют в нашей стране тяжелейшую форму кризисного состояния — патологический социокультурный кризис [98]. Ученые-естественники прямо говорят о кризисе науки и связанных с этим самоубийственных тенденциях современной цивилизации [77]. Философы выдвигают задачу осмысления феномена кризиса как глобальной культурологической проблемы [48, 95, 141].
Что касается литературоведения, то здесь дело ограничивается пока лишь предварительными подступами к проблеме. Специальных работ, посвященных проблематике кризиса как глобального явления, насколько нам известно, в современной науке о литературе не существует. Этим и определяется актуальность той постановки проблемы, которая предпринята в нашей работе.
Во введении мы не ставим целью рассмотрение всех аспектов проблематики кризиса, привлекавших внимание ученых и писателей двух последних столетий, но стремимся прийти к некоторому предварительному представлению о существенных признаках феномена кризиса как такового. Исходя из такого представления, мы и формулируем затем цели и задачи нашей работы. * *.
В качестве культурологической и историософской проблемы феномен кризиса начинает осмысляться лишь в начале XX в., хотя предпосылки для такого осмысления сложились гораздо раньше — ещё в первой половине XIX в. В России вопрос о кризисном состоянии культуры обозначился уже в процессе полемики между западниками и славянофилами. Обобщением опыта этой полемики можно считать работы Н. Я. Данилевского «Россия и Европа» (1871) и К. Леонтьева «Византизм и славянство» (1875), предвосхитившие, по признанию современных специалистов, многие выводы О. Шпенглера, А. Тойнби, П. Сорокина и других культурологов и социологов XX в.
Подлинным знамением кризисной эпохи стала, как известно, фигура Фридриха Ницше, констатировавшего «с содроганием подлинного ужаса» (К. Ясперс) последнюю причину крушения современной ему западной культуры: «Бог умер». Кризисное состояние современного мира раскрывалось для Ницше как момент исключительной внутренней напряженности, чреватый возможностью полярно противоположных исходов: «Век, в который он жил, обозначил для него — на историческом фоне тысячелетийнекий поворотный пункт, таивший одновременно и величайшую опасность и величайшую возможность для души человека, для истины его оценок и ценностей, для самой сути человеческого бытия. И Ницше сознательно вступает в самый центр этого водоворота мировой истории» [192, С. 9].
Это значение «поворотного пункта», «переломного момента», обнажающего глубочайший, изначально присутствующий проблематизм во всём, что прежде казалось незыблемым, и есть, по-видимому, важнейший феноменологический признак ситуации кризиса*. Ницше пережил эту ситуацию глубоко личным образом, «Кризис [ < гр. Кп81з решение, поворотный пункт, исход] - резкий, крутой перелом, тяжелое переходное состояние» (Словарь иностранных слов. — М., 1984, С. 267).
См. также: «Кризис — одно из состояний живого организма. Ещё в Древсознательно став носителем кризисного мироощущения, провозвестником кризисной эпохи. Именно этим он оказался близок многим деятелям русского модернизма конца XIX — начала XX вв., также переживавшим болезни своей эпохи изнутри — в болезнях собственного самосознания. «В Базеле проживал Фридрих Ницшеон есть лезвие всей культурытрагический кризис её — в его жизненном кризисе,» — эти слова Андрея Белого в значительной степени могут быть отнесены к самому поэту [12, С. 262]. Предельное обострение исконных антиномий человеческого сознания осмысляется Белым как проявление глубочайшего кризиса современной ему культуры: «Мы переживаем кризис. Никогда ещё основные противоречия человеческого сознания не сталкивались в душе с такой остротойникогда ещё дуализм между сознанием и чувством, созерцанием и волей, личностью и обществом, наукой и религией, нравственностью и красотой не был так отчетливо выражен» [13, С. 210]. Глубоко переживаемая реальность вопроса о том, «быть или не быть человечеству», определяет, по Белому, кризисный характер современного искусства: «Предпосылка всякого художника-символиста есть переживаемое сознание, что человечество стоит на роковом рубеже, что раздвоенность между жизнью и словом, сознательным и бессознательным доведена до концавыход из раздвоения: или смерть, или внутреннее примирение противоречий в новых формах жизни» [14, С. 258].
Для Вячеслава Иванова, другого авторитетного идеолога ней Греции под кризисом понималось завершение или перелом в ходе некоторого процесса, имеющего характер борьбы. В самом общем виде кризис есть нарушение равновесия и в то же время переход к некоторому новому равновесию" [98, С. 33]. русского модернизма, кризис современной культуры раскрылся, прежде всего, как обострение изначального антиномизма правых и неправых начал индивидуализма и гуманизма нового времени. С одной стороны, начиная с эпохи Возрождения, «индивидуализму дан самой моралью царственный просторличность провозглашена самоцелью, и провозглашено право каждой личности на значение самоцели». Но, с другой стороны, «страшна свобода: где ручательство, что она не сделает освободившегося отступником от целого, и не заблудится ли он в пустыне своего отъединения?» [65, С. 19 — 20]. Кризис, по Иванову, и есть обнаружение подмены, извращения правых начал индивидуализма, ведущее к утрате онтологической почвы личного Я: «Поистине мы только дифференцировались, и нашу дифференциацию принимаем за индивидуализм. Но принцип дифференциации мы обратили на самих себя. Наше я превратилось в чистое становление, т. е. небытие. Поиски иного я разрушили в нас неустанными преодолениями и отрицаниями всякое личное я» [Там же, С. 22 — 23]. Кризис современного индивидуализма означает для Иванова в конечном счете кризис той «меры человеческого», которая господствовала в культуре, начиная с эпохи Возрождения, т. е. гуманизма — «утвердившегося со времен античности и отвлеченного понятия о природном достоинстве человека как такового» [66, С. 106].
Под знаком кризиса ренессансного гуманизма осмысляет содержание всего периода новой истории и Николай Бердяев. Прослеживая диалектику неизбежного перехода гуманистического самоутверждения в самоотрицание, Бердяев в своих выводах во многом оказывается близок Вячеславу Иванову: «. человек, вступивший на путь исключительного самоутверждения, когда он перестает признавать высшее начало, когда он признает себя самодовлеющим существом, истребляет себя по неизбежной внутренней диалектике, отрицает себя. .От безграничности и безудержности индивидуализма индивидуальность погибает. Мы видим действительный результат всего гуманистического процесса истории: гуманизм переходит в антигуманизм» [20, С. 121 -122].
О кризисе гуманизма как главном содержании истории европейской культуры XIX — XX вв. размышляет философ Семен Франк в статье «Достоевский и кризис гуманизма» (1931). Под гуманизмом Франк понимает «ту общую форму веры в человека (здесь и далее — курсив С. Франка), которая есть порождение и характерная черта новой истории, начиная с Ренессанса. Её существенным моментом является вера в человека как такового. в отличие от того христианского понимания человека, в котором человек воспринимается в его отношении к Богу и в его связи с Богом» [164, С. 392]. Этапы развития ренессансного гуманистического мировоззрения и становятся, по Франку, стадиями всё более глубокого обнаружения кризиса гуманизма.
Положительное значение кризиса состоит, по Франку, в том, что кризисное состояние неотвратимо выдвигает задачу опознания и преодоления ложных предпосылок культурного процесса. Путь такого опознания и преодоления указал, по мнению философа, в своем творчестве Достоевский: «Гуманизм должен либо окончательно погибнуть, либо воскреснуть в новой — и вместе с тем исконной и древней форме — в форме христианского гуманизма (курсив — С. Франка), которую для современного человека открыл Достоевский» [Там же, С. 397].
Анализ кризисного состояния культуры, предпринятый русскими философами и мыслителями первой половины XX в.*, позволяет прийти к важному заключению: всякий кризис чреват возможностью двух противоположных исходов — возможностью окончательной катастрофы и гибели или же возможностью очищения, обновления, воскресенияактуализация этих двух возможностей и оказывается важнейшим сущностным признаком кризисного состояния. В связи с этим в работах ряда авторов выдвигается важное понятие, непосредственно соотносящееся с понятием кризис, а именно — катарсис.
В культурологии Питирима Сорокина катарсис рассматривается как необходимый этап разрешения кризиса культуры: «Используя терминологию христианского культа, П. Сорокин описывает основные этапы развертывания и выхода из кризиса: кризис — катарсис — харизма — воскрешение, — подчеркивая при этом, что через трагедию кризиса, муки страдания (распятия) общество очистится и вернется к разуму и вечным, универсальным, абсолютным ценностям» [141, С. 46].
О теснейшей связи кризиса и катарсиса как в личной, так и в общенародной жизни размышляет философ Иван Ильин «Религиозное очищение необходимо не только в личной жизни,.
Близость изложенному пониманию сущности кризиса гуманизма обнаруживают и современные философы, достаточно далекие от традиций русской религиозной мысли начала XX века: «Опасность гуманизма как мировоззрения состоит в том, что он, с одной стороны, не учитывает слабости человека, его подверженности дурным соблазнам, низменным инстинктам (все то, что религия называет первородным грехом, искажением человеческой природы), а, с другой стороны, недооценивает свободу, присущую человеку. Кризис (и при том неизбежный) переживает гуманистическое (оно же естественно-научное) представление о человеке как целиком вмещающемся в сферу «естественного1* [117, С. 13]. но и в национальном бытии. личный катарсис нуждается в общецерковном и национальном очищении.. там, где необходимость катарсиса забывается и остается в пренебрежении, — религиозное очищение приходит в виде крушения, кризиса, массовых преступлений, бедствий, мук» [70, С. 249].
К идее катарсиса приходит в своих размышлениях о духовном смысле русской революции Николай Бердяев: «Русскую революцию нужно пережить духовно углубленно. Должен наступить катарсис, внутреннее очищение» [21, С. 455]. Катарсисом именует Бердяев заключительный апокалиптический акт мировой истории: «История есть прежде всего судьба и должна быть осмыслена как судьба. Трагическая судьба, как и всякая трагедия, должна иметь последний, всеразрешающий акт. В трагедии неизбежен катарсис» [20, С. 161].
О том же говорит и Георгий Флоровский в статье «Метафизические предпосылки утопизма» (1926): «Верующее сознание не знает исторической бесконечности: история, как трагедия, имеет свою развязку, свой катарсис — не имманентное завершение, а судный день .» [162, С. 95].
Связь понятий кризис и суд вполне закономерна, т.к. греческое слово кршш буквально означает «суд». В греческом тексте Нового Завета слово кршш (и родственные ему) везде стоит там, где речь идет о «суде» и «осуждении» (как в сфере человеческих отношений, так и в сфере отношений Бога и человека): «Mi| KpivBTS. iva kpiQtit?. Ev со YaP кр (цатг кщуетв, KoiOiicegOe.» -" Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы" (Мф. 7:1- 2) — «A^f)v Я-ёую n^iiv avsKTOxepov saxai Y1! 2о5оцюу Kai Го (х0ррюу ev тщера Kpiqseog, i] tti jroX-ei 8K8ivt|.» — «Истинно говорю вам: отраднее будет земле.
Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому" (Мф. 10: 15).
Сущность понятия кризис, исходя из самой этимологии этого слова, хорошо разъясняет И. Ильин: «Слово кризис (здесь и далее курсив — И. Ильина) есть первоначально слово греческое. Оно происходит от „крино“, что значит „сужу“. Кризис обозначает такое состояние человека, его души и тела, или дел и событий, в котором выступают скрытые силы и склонностиони развиваются, развертываются, осуществляют себя, достигают своего максимального напряжения и проявления, своей высоты и полноты и тем самым обнаруживают свою настоящую природу: они как бы произносят сами над собою суд и переживают поворотный пунктэто их перелом, перевалчас, в который решается их жизненная судьбаэто время их буйного расцвета, за которым начнется — или их преодоление и крушение, или же умирание того человека или того человеческого дела, которое было настигнуто кризисом» [71, С. 333 — 334]. Аналогичным образом осмысляется это понятие в книге одного из авторитетных представителей эзотерического традиционализма XX в. Рене Генона: «Этимология этого слова. делает его синонимом таких понятий как «суд», «решение», «установление различий», «различение». Фаза, которую обычно считают «критической» в самом широком смысле, непосредственно предваряет завершение всего процесса, независимо от того, приводит ли это к негативным или к позитивным последствиям. Поэтому в данной фазе происходит подготовка к вынесению окончательного «решения», взвешивание всех «за» и «против», определение того, какие результаты являются позитивными, а какие негативными, и наконец, окончательное выяснение того, в какую же сторону в итоге склонятся весы.
Некоторые используемые нами выше выражения несомненно вызовут ассоциации с тем, что называют «Страшным Судом» или «Судным Днем». Это совершенно правомерно в обоих случаяхбудем ли мы рассматривать идею «Страшного Суда» символически или буквально" [38, С. 11].
Обнаруживающийся в глубинных семантических слоях слова «кризис» эсхатологический заряд необходимым образом углубляет и расширяет тот достаточно узкий смысл, который обычно вкладывают в это понятие в его современном употреблении. Неизбежным оказывается вопрос: не являются ли известные нам частные, локальные, конкретные проявления кризисных процессов выражением глобальных, универсальных закономерностей, охватывающих не только данную область человеческой деятельности в данную эпоху, но весь мир, всё бытие в целом? В какой мере осознавался и как интерпретировался подобный вопрос русскими писателями? * *.
Общеизвестно, что русская литература двух последних столетий проявляла исключительный интерес к проблематике кризиса. Духовный кризис русской интеллигенции, восходящий, как показал уже Грибоедов, к кризису просветительского гуманизма, — такова магистральная тема русской литературы на протяжении всего XIX в. По мнению С. Франка, «первое своё выражение этот кризис нашел у двух русских умов, которые в этом своем значении ещё совсем не оценены — у Гоголя и у Герцена» [164, С. 393]. Мысли Франка о значении творчества Ф. Достоевского как выражении и преодолении кризиса гуманизма мы приводили выше.
Столь же значительно с точки зрения проблематики кризиса и творчество Л. Толстого. В «Войне и мире» война 1812 г. предстает не только как выражение общенационального и общеевропейского кризиса (добавим — и катарсиса), но осмысляется как результат действующих в мировой истории закономерностей метафизического порядка. В недрах могучего эпического сознания Толстого обнаруживается повышенное тяготение к ситуациям кризисно-катартического характера, которые становятся устойчивыми, можно сказать, доминантными структурами его художественного мира: «Наиболее заветной художественной идеей его было, думается, это: взять человека на его высшей мирской ступени (или возвести его на такую ступень) и, поставив его перед лицом смерти или какого-либо великого несчастья, показать ему ничтожество всего земного, разоблачить его собственную мнимую высоту, его гордыню, самоуверенность.» [26, С. 27]. Толстовский катарсис, как показывает Бунин, обнаруживает радикальную религиозную интенцию (хотя и не христианского типа) -стремление к освобождению от «всего земного» в самом прямом и буквальном смысле. Отсюда тот страстный радикализм в «переоценке всех ценностей», который позволяет характеризовать Толстого как ярчайшего выразителя кризисного мироощущения XIX в. Именно это, думается, давало основание для сопоставления Толстого и Ницше: «В нравственных натурах этих двух величайших моралистов XIX века есть вообще много сходного, несмотря на полное различие в содержании их учений» [165, С. 48].
Обостренная чуткость русских писателей к проблематике кризиса вытекает, как утверждает Бердяев, из самого строя русской души: «Трагедия творчества и кризис культуры достигли последнего заострения у великих русских писателей: у Гоголя, у.
Достоевского, у Толстого. Эта трагедия и этот кризис ведомы всякой подлинной русской душе и не позволяют нам жить радостной культурной жизнью. «[21, С. 301]*.
Для литературоведа такого рода признание делает возможным следующий вывод: фактор кризисности — выражение и преодоление средствами искусства кризисных процессов в культуре нового времени — оказывается для русской литературы сущностно определяющим, выдвигается в число её фундаментальных идейно-художественных доминант. Тем самым осознается важнейшая и актуальнейшая задача — извлечь на поверхность этот определяющий фактор, сделать его предметом специального исследования. Попытки такого рода в литературоведении советского периода предпринимались. В статье Е. Тагера «У истоков XX века» (1983) характер всего литературного процесса начиная с 90-х годов прошлого века ставится в тесную связь с понятием кризисности: «Отправным пунктом и питательной почвой для всего нового искусства и явилось более или менее ясное осознание кризиса., охватившего все сферы человеческого бытия., нельзя забывать, что именно из динамического катастрофизма историче.
Мыслители начала XX в. обычно не упоминают в числе главных выразителей кризисного мироощущения имя Пушкина. Однако в наше время и пушкинское творчество начинает осмысляться под знаком кризиса «ситуации его главных произведений предельны и катастрофичны. Смерти и убийства, измены и предательства, виселицы и яд, распад семейных и дружеских связей, трагические разлуки любящих, бушевание разрушительных природных и душевных стихий, крушение судеб. многочисленные безумцы, сумасшедшие — всё это буквально наполняет и переполняет мир Пушкина» [118, С. 195, 198]. Исследователь показывает, что интуиция глобального катастрофизма была ведома нашему великому поэту в не меньшей степени, чем интуиция мировой гармонии. ски переломной эпохи родились и небывалые ранее поэтические завоевания, открытия новых художественных горизонтов, и опасные симптомы распада всей человеческой художественной культуры" [152, С. 289]. Фактор кризисности и определяет, по мысли Тагера, важнейшие черты нового искусства, в числе которых, прежде всего, называются новая картина мира, жертвующая «дифференцированной жизненностью изображения ради емкого и всеохватывающего синтетического обобщения», создание форм «лаконических, экономных, способных сразу и непосредственно вскрыть глубинную суть явления», новый масштаб диалектических взаимоотношений «микрокосма отдельной личности с макрокосмом общественного бытия» [Там же, С. 295].
В творчестве А. П. Чехова отмеченные черты нового искусства проявились, как представляется, с наибольшей силой. Общеизвестно и бесспорно, что Чехов — ключевая фигура периода «рубежа веков». Его творчество завершает целую эпоху развития русской литературы и одновременно дает мощные импульсы для развития не только русской, но и мировой литературы XX века. Именно это качество «рубежности», «переломности», «переходности», с огромной силой сказавшееся в творчестве Чехова, и представляется наиболее существенным с точки зрения намеченной выше задачи.
Столь очевидное ныне, это качество чеховского творчества практически не осознавалось современными писателю критиками. Неучтенным и неопознанным здесь оказывается именно фактор кризисности, если и уловимый в какой-то мере в сфере проблематики чеховских произведений, то вовсе не уловимый в сфере поэтики. Связь этих аберраций эстетического восприятия с общими процессами кризисного характера в культурном сознании рубежа веков удачно отмечает Л. Цилевич: «В эпоху резких сдвигов в искусстве возникает своего рода аберрация художественного восприятия: отказ художника от определенных, исторически обусловленных, изживающих себя, эстетически исчерпанных разновидностей (здесь и далее — курсив Л.М. Цилевича) художественных форм воспринимается как отказ от самих этих форм. Аналогичные ситуации возникали на рубеже XIX — XX вв. и в других сферах искусства слова .
В свою очередь, эти эстетические ситуации можно рассматривать как частный случай более широкой, гносеологической проблемы: преодоление кризиса прежних представлений о качествах и свойствах действительности" [173, С. 16 — 17].
Но само по себе присутствие фактора кризисности не определяет ещё новаторский характер чеховского искусства, поскольку мы признали присутствие этого фактора неотъемлемым и коренным свойством всей русской литературы XIX века. У Чехова нам приходится констатировать качественно новую ступень «овнутрения», имманентизации фактора кризисности кризис предстает уже не как временное нарушение «нормального» течения жизни в виде какого-то экстраординарного события (как это было в дочеховской литературе), а как постоянный, латентно присутствующий, в любое мгновение готовый проявиться и, в этом смысле, «нормальный» фактор. «Ненормальной оказывается. сама норма жизненных отношений, а не её нарушение .» [28, С. 21]. «Речь шла о создании картины жизни, и вширь и вглубь захваченной кризисом, поскольку упор делался на трезвом, трезвейшем осмыслении существующих и ежечасно возникающих кризисных ситуаций» [46, С. 56].
Отсюда то новое понимание драматизма*, в силу которого моменты кризисно-катартического характера застают чеховских героев в самой обыденной, будничной обстановке: «какое-то новое впечатление, которое может казаться незначительным для окружающих, приобретает в определенный момент их жизни поистине взрывчатую силу. Тогда наступает кризис, тогда рушатся их прежние представления и — как в озарении — перед ними возникают новые истины» [184, С. 60]- «Герой в самой обыкновенной для него ситуации испытывает кризисное состояние, признает негодным своё прошлое поведение» [90, С. 93].
Литературоведы советского периода в целом проявили достаточную чуткость и внимательность к внешним моментам, связанным с фактором кризисности у Чехова. Подробно фиксировались различные аспекты проблематики, дающие феноменологическое раскрытие темы кризиса: утрата «общей идеи» как сверхличной ценности чеховским героем, его неспособность ориентироваться в окружающем мире, восприятие действительности в аспекте абсурда, феномен отчуждения, страх жизни как следствие смыслоутраты, феномен «идейной» одержимости, узкой «специализации» сознания, неспособность к личностной «самоактуализации» и многое другое**. Но лишь в немногих случаях советские литературоведы приближались к выводам общего по.
В известном высказывании писателя, передающем это новое понимание, по нашему мнению, как раз и выразилась специфическая чеховская интуиция имманентной кризисности, имманентного проблематизма человеческого существования: «Люди обедают, только обедают, а в это время слагается их счастье и разбиваются их жизни» [Цит. по: 173, С. 18].
См. работы Вялого Г. А. [28], Гурвича И. А. [46], Камянова В. И. [75], Катаева В. Б. [80], Колобаевой Л. А. [87], Линкова В. Я. [101], Сухих И. Н. [149], Полоцкой Э. А. [127], Тюпы В. И. [157], Червинскене Е. П. [174], Чудакова А. П. [181] и др. рядка, дающим представление о действительном масштабе и глубине постижения кризисных процессов в творчестве писателя. В числе таких случаев — высказанное и развитое в книге В. Линкова положение о том, что «Чехов одним из первых сумел осознать новое явление недейственности культуры в среде образованных людей .» [101, С. 16]. В осмыслении Линкова Чехов выглядит предшественником тех русских философов, писателей, ученых, которые в 10-е — 20-е годы констатировали катастрофический разрыв между культурой и жизнью, их «дурную неслиянность» (Н. Бердяев в работе «Смысл творчества», М. Гершензон и В. Иванов в «Переписке из двух углов», М. Бахтин в своей философии поступка). Ещё один случай такого же рода находим в статье А. П. Кузичевой: «Из основы самой жизни чеховских героев вынут один из краеугольных камней, и существование становится навсегда непрочным, тревожным, проникнутым ощущением катастрофы» [92, С. 256]. Ценность этого высказывания в том, что оно возвращает проблему в необходимое для её адекватного осмысления экзистенциальное измерение — то измерение, которое в своё время было намечено Львом Шестовым в статье «Творчество из ничего» (1905). В этом измерении выявляется сегодня объективная связь чеховского мирочувствия с духовной традицией христианства. Выясняется, например, определяющее значение для чеховского творчества Псалтыри как книги «канонической» в передаче кризисных состояний души: «Псалтырь дала своеобразный канон в толковании и изображении души ищущей, неуспокоенной, драматически напряженной, но при этом неизменно устремленной к идеалу и совершенству, к Богу. Естественно, что писатели переломных эпох, сами переживающие и изображающие духовные кризисы, оказываются во власти этой традиции, еледуют ей и углубляют её» [58, С. 274].
Свидетельством того, насколько насущной оказывается сегодня необходимость целостного взгляда на творчество Чехова с точки зрения проблематики кризиса, может служить всё более явственно проступающая в работах чеховедов последних лет тенденция к глобализации проблематики чеховского творчества в перспективе футурологических предвидений писателя. Художником-провидцем, способным прозревать «зарождение будущих глобальных конфликтов в личных судьбах, в частной жизни своих героев», видит Чехова Т. Князевская [85]. Апокалиптические мотивы отмечает исследовательница в пьесах «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры». Образ Соленого оценивается как предвестие нового типа homo sapiens — «человека толпы», «личности без личности». Принимая в целом такую оценку, следует добавить, что здесь мы имеем дело с явлением, подлинная сущность которого может быть раскрыта лишь в контексте важнейшей для культурологической мысли последующих десятилетий темы варваризации культуры, поднимавшейся в работах Д. Мережковского («Грядущий Хам»), Н. Бердяева («Смысл истории», «Новое средневековье», «Варварство и упадничество», «Духовное состояние современного мира»), С. Франка («Крушение кумиров», «Свет во тьме»), X. Ортеги-и-Гассета («Восстание масс»), Романо Гвар-дини («Конец нового времени»), Рене Генона («Кризис современного мира») и многих других мыслителей XX в.
Писатель-эколог, предугадывающий катастрофические последствия технического прогресса, — эту ипостась творческой личности Чехова акцентирует М. Громов: «Чехов был врачом, естественникомон действительно первым обратил внимание на трагическую односторонность технической цивилизации. ему, естественнику и врачу, было не так уж трудно представить себе, во что выльется ход вещей, приведший к современной НТР со всеми её новшествами, с конфликтами душ и машин» [45, С. 172]. Тот же исследователь со всей определенностью говорит о пророческом даре писателя, проявившемся уже в первой пьесе «Безотцовщина», не опубликованной при жизни автора (о ней речь пойдет в 1 главе нашей работы).
В совершенно непривычном качестве — как феноменолог культуры — представлен Чехов в книге американского ученого С. Сендеровича. Прослеживая феноменологическое раскрытие «культурного комплекса» Св. Георгия Победоносца в творчестве Чехова, исследователь приходит к заключению, что «просвечивание» архетипической природы этого комплекса у Чехова «имеет место в состояниях кризиса индивидуального сознания, в разрывах ткани обыденного бытия, в моменты экзистенциального напряжения» [140, С. 276]. Вывод, венчающий монографию Се-недеровича, придает понятию кризиса в художественном мире Чехова значение «радикального формообразующего концепта» [Там же, С. 278].
Опыт, накопленный чеховедением последних лет, создает необходимые предпосылки для предпринятой нами постановки проблемы, предполагающей решение следующих задач: 1) выявить определяющее значение фактора кризисности как в сфере проблематики, так и в сфере поэтики Чехова- 2) проследить истоки миросозерцательных интуиций, определяющих содержание самого понятия кризис у Чехова- 3) переосмыслить ряд ключевых проблем чеховедения (прежде всего проблему чеховского «антиномизма») с учетом фактора кризисности.
Конечная цель работы имеет в виду выход к адекватному осмыслению фактора кризисности как модуса чеховской художественности.
В перспективе таким образом понимаемых конечных целей и задач выясняются конкретные направления нашего исследования. Первая глава носит как бы пропедевтический характер. Здесь совершается первоначальное вхождение в художественный мир Чехова, путем усвоения «микрокосмических» и архетипиче-ских принципов его художественного видения. Прочтение первого опубликованного рассказа («Письмо к ученому соседу») и первой, юношеской пьесы («Безотцовщина») в аспекте постижения «эмбрионального» характера их художественной структуры позволяет придти к некоторым необходимым предварительным выводам относительно особенностей проявления фактора кризисности в проблематике и поэтике произведений писателя.
Вторая глава посвящена исследованию негативных проявлений фактора кризисности в сфере чеховской философии человека (с выходами в сферу философии природы и культуры). В качестве такого рода проявлений здесь осмысляются феномены «хмурости», «хамелеонства», «футлярности», а также феномен «возвышенного эгоцентризма». В конце главы намечается выход к осмыслению позитивного аспекта чеховской антропологиикатегории «таланта» .
В третьей главе исследуется возможность интерпретации кризиса, катарсиса и чуда как структурных моментов чеховской картины мира и составляющих чеховского метасюжета.
В заключении подводятся итоги, делаются необходимые общие выводы и осмысляются перспективы применения предложенного нами исследовательского подхода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
.
Результаты нашего исследования позволяют заключить, что исходной интуицией, определяющей как проблематику, так и поэтику чеховского творчества, является интуиция кризисности как всеобщего и перманентного состояния, коренящегося в духовной структуре личности и распространяющегося на сферу культуры и всего бытия.
С одной стороны, кризис у Чехова раскрывается как проявление последствий некоторого онтологического отрыва, отпадения, а значит, и несамодостаточности всего «здешнего» бытия, как человеческого, так и природного, — то, что у Чехова феноменологически раскрыто в виде явлений «хмурости», «хамелеонства» и «футлярности». Однако, с другой стороны, в этом же своем качестве кризис, как показывает писатель, — глубоко продуктивное состояние, поскольку объективно содержит в себе требование осознания этого отрыва и этой несамодостаточности, призыв к выходу из «футлярного» состояния в пространство свободного духовного поиска («поле»). Духовное усилие «человека поля» способно у Чехова перевести кризисный процесс в стадию позитивного катарсиса, завершающегося мгновением чуда — ярким и коротким мигом переживания смысла, полноты и радости бытия.
Кризис в художественном мире Чехова всегда чреват катарсисом. Процесс актуализации кризиса, переходящего (или не переходящего) в катарсис, заверщающийся (или не завершающийся) чудом, мы считаем возможным назвать метасюжетом чеховского творчества. Содержание этого метасюжета раскрывается через взаимопроникновение двух жизненных планов — реальноэмпирического и символического, конкретно-исторического и архетипического. Символическое и архетипическое измерение чеховских произведений созидается введением латентного слоя тончайших реминисценций и аллюзий, чаще всего библейского происхождения. В этом контексте чеховский метасюжет предстает как реализация вполне определенной парадигматической структуры, которую мы, следуя А. Ф. Лосеву, согласились именовать трагическим мифом. Сущность искусства трагический миф (и у Аристотеля, и в последующей христианской традиции) выводит из первичной интуиции онтологического отрыва, изначальной поврежденности бытия. Углубление этой интуиции ведет к катартическому «очищению» жизни — восстановлению на какой-то миг человека и мира в их первозданной гармонической цельности. Сущность искусства в трагическом мифе оказывается тождественной сущности самой жизни. Образец такого предельного слияния искусства и жизни и дает нам творчество Чехова. Кризис, катарсис и чудо предстают у Чехова одновременно и как модусы самой жизни, и как модусы самой художественности. Искусство Чехова последовательно раскрывает «художество» как конституирующую основу самой жизни, самого бытия. Эта коренная особенность чеховского искусства (представляющая собой, конечно, не что иное, как доведенное до предела совершенного воплощения коренное свойство всякого искусства) и позволяет, на наш взгляд, говорить о явлении «художественной рефлексии» как факторе, определяющем специфику чеховского обра-зотворчества: «Предметом изображения в системе Чехова становится сам феномен художественного изображения как форма осознания мира. человек в художественной системе Чехова изображен как „уже-художественное“ и „уже-изображенное“ явление .» [29, С. 5]. Однако человек в мире Чехова, будучи «уже-художественным» феноменом, мучительно ощущает свою «недовоплощенность» [Там же, С. 11]. Чеховского героя томит смутное ощущение невыполненности какого-то важного жизненного дела, ведущее в минуты высшего обострения кризисного самочувствия к осознанию неисполненности задания духовного самотворчества, нереализованности «таланта» .
Именно поэтому столь продуктивной оказывается и стратегия кризиса как фактор чеховского искусства, как фактор объективного художественного суда над жизнью: «Судить мир и себя — значит всмотреться в себя как в поврежденную икону, увидеть в себе её неповрежденный остаток и культивировать Бога в себе» [23, С. 255]. Именно это, в сущности, и делает Чехов-художниквсматривается в человека как в поврежденную икону, прозревает и культивирует в нем её неповрежденный остаток.
Исследование особенностей чеховской поэтики имени позволяет заключить, что и здесь у Чехова обнаруживается близость христианской традиции. Наблюдающееся во многих случаях несоответствие, иногда очень резкое, между эмпирическим характером героя и его именем и является знаком «недо-воплощенности» чеховского человека, выражением модуса кри-зисности в структуре его личности.
Обостренная интуиция кризисности определяет, по нашему мнению, и тот чеховский синхронизм разноощущения жизни, который в сфере поэтики проявился как принцип «двойного освещения», предполагающий совмещение и сосуществование полярных аспектов изображаемой картины мира. Поскольку кризис есть состояние сущностно диалектическое, а не дуалистическое, постольку и проблему чеховского антиномизма следует трактовать диалектически: писатель дает не изолированное рядополо-жение двух противоположных планов, но прорастание сквозь эмпирический план хаоса и раздробленности первозданной картины целостного бытия. С этой точки зрения есть основание говорить о кризисе, катарсисе и чуде как о модусах чеховской художественности, поскольку проблема художественности в глубине своей и есть проблема целостного видения мира, в котором момент хаоса и раздробленности («кризисность») выступает как необходимая предпосылка.
В структуре художественного акта Чехова определяющее значение приобретает поэтому усилие «отрицательного» (в диалектическом смысле) порядка, представляющее собой проявление общей способности всякого подлинного художника. В. Вейд-ле характеризует сущность этой способности так: «Отрицательная Способность, умение пребывать в том, что здравому смыслу кажется неясностью и что „Просвещение“ объявляет темнотой., способность эта гораздо более исконна и насущна для поэта, для художника, чем всё то, что можно назвать чувством красоты, чем всё, что связано с Красотой как отвлеченной идеей. Прежде всякого вкуса и умения выбирать, прежде предписанного Пушкиным „чувства соразмерности и сообразности“, художник должен обладать даром созерцать мир и каждую его часть не в аналитической их расчлененности и разъятости, но в первозданной цельности нетронутого бытия, где сложность не мешает простоте и простота в себя включает сложность. Положительно определить установленную Китсом Способность можно, сказав, что она состоит в умении видеть мир чудесным, в умении различать чудесное» [31, С. 123, 125]. Чехов не только в полной мере обладал этим умением, но и в столь же полной мере переживал его кризис. Если согласиться с Владимиром Вейдле, что «все искусство девятнадцатого века проникнуто борьбой за возрождение чудесного» [31, С. 126], то следует признать, что колоссальная тяжесть этой борьбы легла на плечи Чехова, с предельной остротой пережившего в своем личном кризисе кризис своей эпохи и давшего в своем творчестве его художественное преодоление.
В этом прежде всего видится нам значение чеховского творчества для последующей литературной эпохи. Острейшее переживание кризиса и жажда чудесного, как известно, определяющие черты литературы «серебряного века». И Чехов в этом отношении может быть признан ключевой фигурой этой эпохи. Однако в литературе рубежа столетий значение катартического элемента в общей диалектической структуре кризис — катарсисчудо значительно ослабевает, что приводит к резкому возрастанию дуалистических структур в мировоззрении и поэтике многих деятелей «серебряного века». Таким образом представляется нам доминанта того процесса, который мыслители XX века характеризовали как переход от стадии «искусство кризиса» к стадии «кризис искусства» .
Рассмотрение фактора кризисности в творчестве Чехова, думается, может углубить представление о целом ряде методологических и теоретических литературоведческих проблем. Кризис, катарсис и чудо оказываются теми ключевыми категориями, которые способствуют раскрытию глубинной взаимосвязи содержания и формы, проблематики и поэтики произведений литературы, т. е. приобретают статус модусов художественности. Осмысление этих категорий в качестве модусов художественности представляется важной задачей современного литературоведения.