Достоевский и Чернышевский в русской духовно-литературной ситуации второй половины XIX века
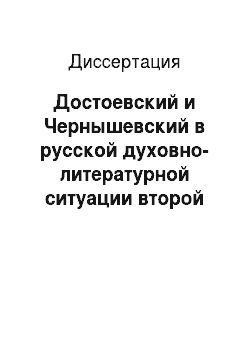
Ж ра, оба писателя оказались единодушны в окончательных характеристиках социального идеала, на что обратил внимание С-Щедрин, отметивший, как странную, неприязнь Достоевского к тем, «которых усилия всецело обращены в ту самую сторону, в которую, по-видимому, устремляется и заветнейшая мысль автора» .1 В обоих утопиях воссоздан некоторый максимум гуманистического устройства вплоть до преодоления… Читать ещё >
Содержание
- Судьба литературного наследия Достоевского и Чернышевского складывалась в литературоведении последних десятилетий едва ли не противоположным образом
Повышенная строгость идейных оценок, отличавших отношение к Достоевскому в 40 — 50-е годы, сменилась в настоящее время увлеченной реабилитацией его творчества. Именно в достоевистике современная историко-литературная наука выдвинула наиболее талантливые, интеллектуально насыщенные концепции, продемонстрировала высокий литературоведческий профессионализм в сочетании с философской глубиной анализа. В своем отношении к Достоевскому отчитались лучшие умы современного литературоведения, творчество Достоевского обрело исследовательский эквивалент, какого оно не знало ни на одном из предыдущих этапов русской достоевистики.
Лозунг «борьбы за Достоевского», выдвинутый в 50-е годы советским литературоведческим официозом ('В.Ермилов) и предполагавший истолкование творчества писателя в ортодоксальном марксистско-ленинском духе, перерос впоследствии в утверждение об абсолютной прогрессивности его вклада в гуманистическую культуру современности. При этом происходит объективное забвение того факта, что «достоевщина» — не одностороннее извращение Достоевского его недобросовестными ин
Введение1 терпретаторами, но действительное начало, присутствующее в духовной личности самого Достоевского. Именно так ставил в свое время вопрос Л. Толстой, возражавший против «возведения в пророка и /мученика/ святого — человека, умершего в самом горячем процессе внутренней борьбы добра и зла. Поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба».1 Подобным же образом высказывался М. Горький, выразивший принципиальное сомнение в правомерности привлечения всего Достоевского в духовную цивилизацию будущего человечества. Еще резче отзывался о «достоевщине» в Достоевском один из законодателей мировой литературы XXвека В. Набоков: «Бесконечное копание в душах людей с дофрейдовскими комплексами, упоение унижением человеческого достоинства — все это вряд ли может вызвать восторг"2
Начало исследовательской реабилитации Достоевского приходится на 60-е годы, когда социалистическая идея еще довлела над сознанием общества. Поэтому большинство достоеведческих работ этого периода стремилось подчеркнуть лояльность писателя к идеалам социализма, переадресовать его многочисленные антисоциалистические выпады буржуазным, домарксистским, вненаучным искажениям социалистической идеи. Эти попытки предстают не вполне убедительными, потому что сам Достоевский называл в своей критике вполне конкретные имена и адреса: Чернышевский, «марксиды», «интернационалка».
В настоящее время, в связи с переориентацией общества на новые идеологические ценности, возобладало утверждение о враждебности Достоевского к социализму вообще. Оно научно доказательно лишь в отношении позднего Достоевского. Но и в этот период противостояние писателя социалистической идее осложнялось беспрерывным заслушиванием
1 «Яснополянский сборник. Статьи и материалы. Год 1960.», Тула, 1960, с. 123.
2 В. Набоков, Федор Достоевский. — В сб.: «Русские эмигранты о Достоевском», СПб, 1994, с.378−379.
ВведениеI доводов в ее пользу и включало в себя признание ее неистребимости в духовной практике человечества.
Научно-критический анализ воззрений Достоевского, вошедших в арсенал современной этико-философской мысли, закономерно приводит к наследию революционных демократов и, прежде всего, к Чернышевскому. Именно в лице этих мыслителей мы имеем две идеологические вершины предреволюционного столетия, два полюса, вокруг которых так или иначе распределялось все его духовное содержание и формировались два мировоззренческих направления русской культуры, последовательно представленные демократами-шестидесятниками, народниками 70 — 80-х гг., Плехановым и Лениным, а, с другой стороны, славянофилами, почвенниками, представителями русского религиозногого идеализма рубежа двух веков в лице Н. Бердяева, Д. Мережковского, Н. Лосского, Вл. Соловьева и др.
Между тем исследовательский интерес к Чернышевскому в последнее время неуклонно снижался. Его изучение все очевиднее замыкается обложками школьных и вузовских учебников, редкие новые работы о нем остаются за гранью активного читательского внимания. Как писал еще в 1980 году один из советских литературоведов, «трудно согласиться с той недооценкой революционно-демократического наследия, которая проявляется сегодня даже в том, что за последние годы почти не появилось талантливых, значительных исследовательских работ, посвященных творчеству классиков революционной демократической мысли. В научных и учебных филологических заведениях, да и в наших объединениях критиков и литературоведов почти не осталось крупных специалистов по Герцену, Чернышевскому, Писареву. Правильно ли это?."1
Конечно, это неправильно. Независимо от того, как смотрятся Герцен или Чернышевский в политическом зеркале сегодняшнего дня, в деф. Кузнецов, Благородство целей и ясность задач. — «Литературное обозрение», 1980, № 7, с. 9.
Введение 1 вятнадцатом столетии они владели столь многими умами, так сильно влияли на культурную жизнь эпохи, что без них правильное представление об этой эпохе невозможно и вненаучно.
Начавшееся с 1960-х гг. отторжение от Чернышевского серьезной литературоведческой мысли было по-своему закономерным. Волею политического официоза Чернышевский был объявлен неприкосновенным авторитетом русской литературы 19 века, что приводило к почти автоматическому диссертационному успеху любой работы о нем. В «науку о Чернышевском» двинулся отряд конъюнктурных литературоведов, состязавшихся лишь в апологетических высказываниях в адрес своего предмета и менее всего озабоченных научной аргументацией этих высказываний. «В 50-е годы уже никому не приходило в голову подвергнуть сомнению установившиеся оценки Чернышевского — в литературе о нем установилось сокрушительное единство мнений/./. Стоит пристальнее вглядеться в решение историографией некоторых из кардинальных проблем мировоззрения Чернышевского, чтобы увидеть: оно отразилось не только на уровне исследовательской мысли, но и ее зависимости от политических шаблонов, господствовавших в общественной мысли «.1
Эта канонизация имени и наследия писателя происходила в таком упрощенном, инструктивном духе, что Чернышевский мог бы сказать о себе словами Маркса: «если это марксизм, то я не марксист». Робкие попытки «саратовской школы» во главе с А. Скафтымовым сохранить в отношении Чернышевского должную меру научной объективности были к 50-м годам окончательно пресечены, и автор «Что делать?» на долгие годы и десятилетия предстал примитивным ортодоксом материалистической идеи, что естественным образом привело к утрате живого, творческого интереса к его наследию.
В.Твардовская, Чернышевский в советской историографической науке 1930 — 1950-х годов, М., 1996, с. 19.
Введение i
Это может показаться неожиданным, но в послевоенный период изучение Чернышевского оказалось более плодотворным и научно продуктивным не в Советской России, но на Западе. В работах R. Welled, W. Let-tenbauer2, Ch. Moser3, S. Eade4, E. Lampert5, J. Frank6, Fr. Randall1, J. Skanlan8, W. Woerlin9, N.G.Pereira10,D.R.Brover11 и др. Чернышевский предстает в реальной сложности своей литературной биографии и рассматривается в объективном, а не марксистски препарированном контексте русской культуры 19 века. Неубедительной выглядит поэтому попытка А. Сигриста представить всех западных исследователей Чернышевского околонаучными реакционерами12, что неудивительно, если иметь в виду время написания его критического обозрения (1973).
К настоящему времени ослабление интереса к Чернышевскому достигло критической отметки. Образно говоря, «время Чернышевского» сменилось в умонастроениях филологической интеллигенции «временем
I R. W е 11 е к, Social and Aesthetic in Russian Nineteenth-century Literary Criticizm (Belinsky, Chernyshev-sky, Dobroliubov, Pisarev). In Er. Sinimons (ed) Continuity and Change in Russia and Soviet Thought. Cambridge-Massachusetts, Harward University Press, 1955.
2W. Lettenbauer, Russishe Literaturgeschiste, Frankfurt am Main-Wien, Humbold-Werlag, 1958.
3 Ch. M о s e r, Antinigilism in Russian Novel of 1860's. The Hague, Mounton, 1964.
4 S. E a d e, Pioneers of Populism in Russia: Herzen and Chernyshevsky.- «ANU Historical Journal», 1969, Nov. No.6.
5E. Lampert, Sons against Fathers, — Studies in Russian Radicalism and Revolution. Oxford, Claredon Press, 1965.
6 J. F r a n к, N.G. Chernyshevsky: A Russian Utopia, The Southern Review, 1, 1967.
7 Fr. R a n d a 11, N.G.Chernyshevsky. N.Y., 1967.
8 J. Skanlan, Nicolas Chernyshevsky and Materialism in Russia.- «Journal of the History of Philosophy», Berkley and Los Angeles, 1870, January, vol.7, No.l.
9 W. W о e r 1 i n, Chernyshevsky: The lftan and Journalist, Cambridge, Mass., 1971.
10 N. G. P e r e i r a, The Thought and Teachings of Chernyshevsky, The Hague, 1975.
II D. R. В г о v e r, Training the Nigilist: Education and Radicalism in Tharists Russia, Jthaca, 1975.
12 А. Сигрист. В погоне за антиистиной (Современная западная русистика о Чернышевском).- В кн.: «Русская
литература в оценке современной зарубежной критики", М., 1973.
Введение i
Достоевского". Неожиданную актуальность приобретает в этом смысле прогноз, высказанный еще в 1906 году В. Розановым: «В эпохи, когда жизнь катится особенно легко или когда ее трудность не сознается, этот писатель (Достоевский — B.C.) может быть совсем забыт и не читаем, но всякий раз, когда в путях человеческой жизни почувствуется что-либо неловкое, когда идущие по ним народы будут чем-либо потрясены или смущены, имя и образ писателя, так много думавшего об этих путях, пробудится с нисколько не утраченной силой «.1
Действительно, и Достоевский, и Чернышевский идеологически максимально ангажированы, и историческое время актуализирует то одного, то другого из них. Однако академическая наука предполагает меньшую зависимость своих оценок от преходящей злобы дня. Наряду с объективными причинами «вытеснения» Чернышевского Достоевским дает себя знать определенное стремление попасть в тон текущей идеологической минуте. Как отмечает современная исследовательница, «в настоящее время происходит почти обратный процесс: реабилитация антинигилистической литературы грозит перерасти в ее канонизацию и, напротив, идеологическое неприятие творчества шестидесятников заставляет усомниться в их художественной самостоятельности».2
Вышедший в 1988 году труд И. Паперно «Николай Чернышевский -человек эпохи реализма» можно было бы считать началом исследовательской реабилитации Чернышевского, если бы не тот факт, что он также вышел на Западе. Русская републикация книги в 1996 году, равно как и концептуальная статья А. Эткинда «The american connection или что делал
В.Розанов, «Легенда о Великом инквизиторе» Ф. М. Достоевского: опыт критического комментария, СПб, 1906, с.34−35.
2Н. Старыгина, Образ человека в русском полемическом романе 1860-х годов, М, — Йошкар-Ола, 1966, с. 4.
Введение 8
Рахметов, пока не стал Шатовым"1 не вызвали ожидаемого резонанса в российских научно-критических кругах, если не считать краткой рецензии на статью И. Паперно в журнале «Новый мир и дружественной по отношению к книге, но враждебной к Чернышевскому статьи А.Жолковского.3
Можно, таким образом, констатировать, что Чернышевский продолжает оставаться в зоне научного отчуждения, что не лучшим образом аттестует недавний многочисленный отряд «специалистов по Чернышевскому».
Новизна предлагаемого диссертационного исследования заключена в самой его теме, ни разу не ставшей предметом всестороннего монографического анализа. Немногочисленные статьи по этой теме4 касаются лишь отдельных фрагментов грандиозного спора, который Достоевский вел с революционно-демократическими просветителями на протяжении всей второй половины жизни, перенося его со страниц «Дневника писателя» на художественные страницы, обостряя поименной газетной полемикой, предпринимая издание журналов «Время» и «Эпоха» не в последнюю очередь для того, чтобы уравновесить влияние «партии Чернышевского» и т. д. В диссертации предполагается установить объем и содержание этой
1 «Знамя», 1987, № 2
2 Д. Б, а к, Реалисты. — «Новый мир», 1987. № 2.
3А. Жолковский, О пользе вкуса. — «Золотой век», 1994, № 5.
4 Строго говоря, историко-литературная наука располагает к настоящему времени всего двумя такими статьями. Это работа Н. Бельчикова «Чернышевский и Достоевский», опубликованная в журнале «Печать и революция» за 1928 год и статья Н. Туниманова с одноименным названием в сборнике «Н. Г. Чернышевский. Эстетика.
Литература. Критика." (Л., 1979). Как явствует из датировок, статьи отделены друг от друга почти историческим промежутком в полвека. Отдавая им должное, отметим, что ряд положений Н. Бельчикова несет на себе печать вульгарного социологизма, характерного для литературоведения тех лет. Что же касается безупречного по научной строгости исследования Н. Туниманова, то оно последовательно выдержано в поле биографических отношений Достоевского и Чернышевского, без рассмотрения идейно-художественных аспектов данной параллели.
Введение I полемики прежде всего в художественном наследии писателей, где она осуществлялась в беллетристически опосредствованной форме.
Новизна работы заключается также в попытке проследить динамику влияния Чернышевского и Достоевского на умонастроения русской интеллигенции в разные периоды ее дореволюционной истории.
Предметом анализа являются художественные, публицистические, философские тексты Достоевского и Чернышевского- их дневники и записные книжки- их эпистолярии- документально зафиксированные биографические данные- общественно-литературный контекст их отношений.
Теоретическая и научно-критическая ценность исследования состоит в анализе наследия Достоевского и Чернышевского как некоторой культурной дихотомии, обозначившей одну из главных оппозиций русского общественно-литературного сознания второй половины девятнадцатого века. Если в большинстве публикаций последнего времени Достоевский сравнивается с Чернышевским лишь для того, чтобы безоговорочно скомпрометировать второе имя за счет первого, тем более следует реконструировать их подлинное место и подлинное содержание их отношений в литературной, общественной, интеллектуальной жизни своего времени- рассмотреть не только суть противоречий, но и точки соприкосновения между ними, чтобы не нарушилась диалектическая сложность исследуемой параллели.
Первая глава диссертации («Достоевский и Чернышевский как представители разночинно-демократической культуры») посвящена уточнению места писаталей в противостоянии «дворянского» и «разночинного» социокультурного дискурса их времени.
В первом разделе главы («Единство социально-биографического опыта») устанавливается высокая степень тождественности социально-биографических судеб Достоевского и Чернышевского как типичных представителей разночинной интеллигенции, начавшей с середины 19 века осознавать себя в качестве самостоятельной культурной силы, оппозиционной поколению аристократических «отцов». В диссертации показывается, что ведущая роль в этом самоопределении принадлежит Чернышевскому, чей роман «Что делать?» стал своеобразным культурно-поведенческим кодексом новой социальной генерации. Что же касается Достоевского, то «разночинное» начало в его личности до сих пор игнорировалось. В первой главе диссертации биография Достоевского прочитывается именно под этим углом зрения и констатируется, что Чернышевский и Достоевский явились фактическими единомышленниками в противостоянии дворянской культуре: «она уже все сказала» (Достоевский).
Автор диссертации полемизирует с теорией «единого потока», согласно которой творчество писателей-разночинцев развивалось в общем русле русской классики, находясь в едином идейно-эстетическом пространстве с Л. Толстым, Тургеневым, Гончаровым, Фетом, Тютчевым.1
Во втором разделе («Становление литературного героя-разночинца») прослеживается смена типообразующих персонажей русской литературы первой половины — середины 19 века: «лишний человек"→ «маленький человек"→ «герой-разночинец», инициированный образом тургеневского Базарова. Доказывается, что это обновление литературного героя
1 С наибольшей очевидностью эта нивелирующая тенденция сказалась в фундаментальной коллективной монографии «Революционные демократы и русская
литература 19 века" (М., 1986), где наследие писателей-шестидесятников рассматривается, как продолжение, развитие, совершенствование и т. п. преднахо-димой классической нормы.
II было окончательно завершено в прозе Чернышевского и Достоеьского. Мир их произведений — уже исключительно разночинное городское «множество», где появление героя «из дворян» воспринимается как исключение и, как правило, служит объектом авторской негации (Сторешников и Со-ловцов у Чернышевского, Свидригайлов у Достоевского).
Вместе с тем в диссертации устанавливается принципиальная разница между героями-разночинцами Чернышевского и Достоевского. В первом случае это цельная, мировоззренчески оформившаяся личность, уверенно притязающая, но роль деятеля и хозяина будущей России. Во втором — мятущийся социальный невротик, сочетающий ненависть к сильным мира сего с завистью к ним же. Доказывается, что психологически «модель», созданная Достоевским, была более адекватной тому промежуточному, социально неприкаянному большинству, которое многократно увеличилось в пореформенной России.
Третий раздел («Новая поэтика» Достоевского и Чернышевского") посвящен анализу того, как демократизация литературного героя в творчестве двух писателей отразилась на поэтике этого творчества. Художественно-литературное слово теряет у них свою эстетическую самоценность и становится беллетристическим средством для решения целей и задач, традиционно считавшихся литературе, как искусству слова, противопоказанными. В связи с этим подчеркивается отсутствие у Достоевского и Чернышевского целенаправленной авторской установки на стилевое и языковое совершенствование своих произведений. Образность, изобразительная пластичность, «красота слога» перестают у них быть приоритетными и уступают место прямому, эстетически не вербализованному речевому высказыванию. На основании этой и других особенностей прозы Достоевского и
Введение Ii
Чернышевского в диссертации выдвигается гипотеза о манифестации ими новой романной формы — «разночинного романа».1
В связи с новой романной эстетикой Достоевского и Чернышевского в разделе комментируется также мысль М. Бахтина о наличии полифонических тенденций не только у Достоевского, но и в «сибирской прозе» Чернышевского.
Во второй главе диссертации («Вклад Достоевского и Чернышевского в философскую культуру русского реализма») анализируются причины перерастания русского реализма второй половины 19 века из национального — в мировое явление. По мнению диссертанта, этому способствовало расширение литературно-художественного слова за его собственные родовые пределы, осуществленное в середине столетия Достоевским, Чернышевским, а также Л. Толстым, преобразовавшими литературу из «искусства слова» в беллетристически запечатленную философию человеческого существования.
В первом разделе главы («Утверждение новых задач литературного слова») констатируется, что, упростив и демократизировав эстетику романа, Достоевский и Чернышевский одновременно насытили его сложнейшим мировоззренческим, идеологическим, философским материалом. «Главное — мысль разрешить» — эта установка равно характеризует писательское кредо Достоевского и Чернышевского. Pix реализм сопровождается таким количеством оговорок и уточнений, что это количество само становится новым качеством, где жизненное правдоподобие, адекватность изображения изображаемому не обязательно первенствуют в семантиче
1 Что не исключает, разумеется, иных жанровых дефиниций романной прозы Достоевского и Чернышевского.
Введение
Ж ской ткани произведения, уступая место иным, «интегральным» формам отражения действительности.
Устанавливается активное преломление в романной прозе Достоевского и Чернышевского заимствованного, «чужого» философского материала. В отличие от бытописательского реализма натуральной школы в их наследии беспрерывно реминисцируется интеллектуальный опыт европейской культуры, что позволяет выдвинуть гипотезу о создании Достоевским и Чернышевским руской культурологической прозы — вне зависимости от того, в какие взаимоисключающие этико-философские сюжеты оформлялись эти заимствования.
Второй раздел главы («О двух „скрытых“ философских реминисценциях в прозе Достоевского и Чернышевского») является предметной иллюстрацией выраженного выше положения о культурологичности прозы этих писателей. Воспроизводится механизм беллетризации, включения ими в свои произведения идей двух чрезвычайно популярных в Европе и России середины века мыслителей — Людвига Фейербаха и Макса Штирнера. Как известно, они первыми выстроили антропологическуюо альтернативу немецкой классической философии, обвинив ее в метафизической абстрактности и неподчиненности насущным нуждам человечества. Проведенный в диссертации анализ показывает, что участие этих мыслителей в философском подтексте прозы Достоевского и Чернышевского чрезвычайно высоко.
В третьем разделе («Спор о науке. Проблема морали и разума») формулируется суть мировоззренческих разногласий Достоевского и Чернышевского. Рассматриваются аксиологические приоритеты их мировоззрений и констатируется, что, по-разному воспринимая «суть вещей», они
Введение
Ш преломляли картину мира во взаимоисключающих гносеологических координатах. Чернышевский признавал единственно верным научное, причинно-следственное, «картезианское» знание. «Тайну человека» Чернышевский объявлял поэтической фикцией, тайной, которой нет. Такими же фантомными, интеллектуально архаичными он считал категории морали. Последовательно демистифицируя и демифилогизируя человеческую действительность, Чернышевский в конечном итоге упрощал ее до психофизических реалий и полемически отказывался признавать наличие в ней каких бы то ни было смыслов, кроме разумно постигаемых.
Достоевский же, напротив, настаивал на логической запредельности, непредсказумемости человеческого поведения и поступков. «Меня чорт тащил» — вот окончательное и решающее объяснение Раскольникова своему поступку, а не предваряющая его изощренная интеллектуальная казуистика.
В системе антропологических представлений Чернышевского подобные объяснения невозможны даже терминологически. В диссертации доказывается, что главная причина несогласий Достоевского с Чернышевским лежала не в мировоззрении, но в мироощущении последнего. На основании сравнительного анализа художественно-публицистических текстов показано, что количество прямых «отрицательных» заимствований из Чернышевского резко возрастает у Достоевского именно в его споре с позитивистской гносеологической традицией.
Третья глава диссертации («Формирование гуманистической проблематики») посвящена анализу исходных гуманистических знаменателей творчества Чернышевского и Достоевского. С точки зрения диссертанта большинство сравнительных характеристик Чернышевского и Достоевского страдает несопряженностью исследовательской мысли с духовным
Введение !§ веществом" личности Достоевского. Спор Достоевского и Чернышевского, точнее, спор Достоевского с Чернышевским преподносится в этих сравнениях как логическое превосходство контраргументов первого над аргументами второго. Между тем ключевые убеждения Достоевского построены совсем не на логике. Одна и та же действительность предстает у Чернышевского, как самодостаточная и ни от чего, кроме, как от самой себя не зависящая реальность. У Достоевского же — как «клубление» (выражение Я. Зунделовича) демиургических идей и «высших смыслов». То же и с человековедческими представлениями писателей. У Чернышевского человек равен самому себе, познающ и познаваем. У Достоевского он -вместилище эсхатологических pro и contra, место, где «дьявол с Богом борется». Налицо два совершенно различных восприятия человека и его мира, следует поэтому с большей ответственностью доказывать победитель-ность возражений Достоевского утверждениям Чернышевского, памятуя об от самого Достоевского исходящем «логикой тут доказать ничего невозможно».
В первом разделе главы («Человек и природа. Натурфилософские аспекты полемики Достоевского и Чернышевского») уясняется отношение обоих писателей к природному, биологическому началу в человеке. Констатируется отношение Достоевского к этому началу, как к «карамазовщине», то есть наиболее консервативной инстанции человеческого сознания, когда оно совершенно не отъединено еще от природы и находится во власти ее спонтанных роевых импульсов. Степень положительности или отрицательности героев Достоевского измеряется в том числе степенью их свободы от собственного плотского «эго» (оппозиции «Рогожин — Мыттт-кин», «Федор Кармазов — Алеша Карамазов»).
Введение !§
Далее в разделе рассматривается отношение Достоевского к природе как к некоторому космогоническому началу и устанавливается высокая степень противоречивости этого отношения. С одной стороны природа является объектом пантеистических гимнов, возносимых ей «зосимовскими» персонажами писателя, с другой — выступает, как «темная, наглая и бес-мысленно-вечная сила», унижающая человека своей физической бренностью и не пощадившая даже Христа.
Эти взаимоисключающие трактовки неоднократно и с равной степенью убежденности воспроизводятся на страницах позднего Достоевского, восходя, по утверждению диссертанта, соответственно к религиозному и атеистическому началу в диалогической личности самого писателя.
Что касается Чернышевского, то, мысля «плотского человека» в плане собственного психофизического опыта и стереотипа, он просто не замечал в нем преступно-животных наклонностей в духе «Карамазовых» Достоевского. Его герои демонстрируют почти стерильную чистоплотность, они генетически свободны от инфернальных карамазовских страстей и регулируют свои плотские влечения тем же здравым смыслом. Им (так же, как и их автору) чужды метафизические тревоги по поводу бренности своего земного бытия. В отличие от Достоевского, «природа» у Чернышевского нравственно нейтральна, познаваема и натурфилософски априорно оправдана.
Во втором разделе («Человек и общество. Две концепции социального идеала») сопоставляются социальные представления Достоевского и Чернышевского и констатируется высокая степень дискуссионности этих представлений у Достоевского. В его творческом наследии художественно и теоретически осуществляются две версии социальности человека. По одной из них человек — прирожденный коллективист, и даже «великие завое
Введение ватели, Тимуры и Чингиз-ханы, пролетели, как вихрь по земле, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению".1 По другой же версии Достоевского, человек — напротив, врожденный индивидуалист, у которого гуманистическое «главное — мысль разрешить» постоянно побеждается анархическим «обязан своеволие заявить». С точки зрения диссертанта, эта уникальная филантропически-мизантропическая визия человеческой сущности коренится в духовной личности самого Достоевского, совмещавшей в себе соборно-«зосимовское» и «ивано-карамазовское» начало.
У Чернышевского проблема «человек и общество» решается в совершенно иных «человековедческих» координатах, будучи отфокусирована до предельной реалистической жесткости. По Чернышевскому, реальный (а не инсценированный в духе Достоевского) человек безусловно предпочитает чужим интересам свои собственные: «каждый человек думает только все об себе самом, заботится о своих выгодах больше, нежели о чужих, почти всегда приносит выгоды, честь и жизнь другого в жертву своему расчету».2 Но Чернышевский не исключает при этом, что в число эгоистических выгод могут входить и поступки, приносящие благо другим людям. Так, Лопухов ради спасения Верочки из «подвала» оставляет учебу, а затем, чтобы не помешать развившемуся у нее чувству к Кирсанову, вообще исчезает в Америку, не называя своего решения «ни благородным, ни даже честным», — поскольку он, согласно автору и в отличие от неразумного большинства, является разумным эгоистом. Последовательно вводя в свои построения категории «пользы», «выгоды», «расчета», Чернышевский вы
1 Ф. Достоевский, Псс в 30-ти тт., Л., 1972−1990, т. 14, с. 235. (В дальнейшем ссылки на Достоевского, кроме специально оговоренных, даются прямо в тексте по указанному изданию. Первая цифра указывает том, вторая — страницу цитаты).
2 Н. Чернышевский Псс в 16-ти тт., М., 1939−1953, т. 7, с. 142. (В дальнейшем ссылки на Чернышевского, кроме специально оговоренных, даются прямо в тексте по указанному изданию. Первая цифра указывает том, вторая — страницу цитаты).
Введение страивает остроумную силлогическую конструкцию, где находит место и полемически переосмысленное понятие «добра»: «Из того, что добром называют очень прочные источники долговременных, постоянных, очень прочных наслаждений, если мы думаем, что «добро выше пользы», мы скажем только: «очень большая польза выше не очень большой пользы"(Ч, 7, 144).
Таким образом, здоровое человеческое общество представляется Чернышевскому своеобразным союзом просвещенных эгоистов, умеющих отличать главное от второстепенного, сообразовывать свои интересы с интересами других, получать наслаждение от управления своими страстями и т. д.1
В аннотируемом разделе работы доказывается, что социальная арифметика романа «Что делать?» стала постоянным полемическим адресатом Достоевского не только в «Записках из подполья», но и в большинстве последующих его произведений.2
Особое место в художественно-публицистическом наследии Чернышевского и Достоевского занимают их «модели» идеального человеческого будущего. По обилию футурологических гипотез и прогнозов они занимают исключительное положение в русской литературе, что позволяет говорить об «опережающем» характере их реализма.
Наиболее полно образ идеального человеческого общежития воссоздан обоими писателями в Четвертом сне Веры Павловны и «Сне смешного
1 В диссертации устанавливается, что Чернышевский не был абсолютно оригинален в этой трактовке «правильного» человеческого социума как сообщества разумных эгоистов. Его взгляды на общество представляют собой оригинально авторизованную контаминацию идей Гоббса, Локка, Милля и других европейских социалистов 19 столетия.
2 Подобную точку зрения (но не аргументируя и не комментируя ее), высказывает и А. Жолковский: «Сразу же после ЧД („Что делать?“ — B.C.) появились такие изощренные образцы критической обработки текста, как „Записки из подполья“ (1864), „Преступление и наказание“ (1866), „Бесы“ (1872). Это были более или менее прямые опровержения романа Чернышевского (и тем самым косвенные признания его важности)» (А. Жолковский, О пользе вкуса., с. 17.)
Введение человека". В диссертации проводится детальное сопоставление обеих утопий и устанавливается их ориентация на гедонический (Чернышевский) и христианский (Достоевский) гуманистические идеалы.
Третий раздел главы («Проблема идеальной личности») представляет собой сопоставительную характеристику двух образов (Рахметов и князь Мышкин), в которых писатели выразили свое представление об идеальной человеческой личности. Обращается внимание на то, что изо всех русских писателей только Достоевский и Чернышевский поставили перед собой задачу изобразить «положительно прекрасного человека"(Достоевский).
Наполнение сверхидеального героя у Достоевского и Чернышевского совершенно различно, — пишет Л. Лотман, — как различны социальные и этические идеалы писателей, но функции этих героев в романах «Что делать?» и «Идиот» имеют черты сходства. Оба героя приходят в общество, изображаемое в романах, извне, оба «вмешиваются» в сложившийся до их появления сложный конфликт и пытаются развязать его, но не решение личных вопросов, а служение высшему идеальному началу, которое они представляют, — их таинственное назначение".1 Но не только фабульные совпадения сближают героев Достоевского и Чернышевского. Князь Мышкин демонстрирует неожиданную склонность к уложениям социалистической доктрины в духе Чернышевского (готовность стать мужем сразу двух женщин, оставшееся в черновиках к роману намерение организовать женские артель и коммуну), в Рахметове же отчетливо прочитываются житийные черты христианского святого (подавление плоти, безбрачие, провидческие способности, паломничество, проповедничество). В книге И. Паперно «Николай Чернышевский — человек эпохи реализма» частично прокомментированы эти и другие евангелические реминисценции в образе Рахметова.
1 Л. Л о т м, а н, Реализм русской литературы 60-х годов 19 века, Л., 1974, с. 251.
Введение
Ж
В дополнение к наблюдениям И. Паперно в диссертации выдвигается мысль о том, что Мышкин и Рахметов «испостазируют» две этические интерпретации миссии Христа, объективно заложенные в тексте Евангелий: «мир» или «меч» для достижения абсолютной человеческой гармонии.
В «Заключении» подводятся итоги диссертационного исследования и констатируется, что, расходясь в большинстве вопросов и взглядов на текущую действительность, человеческую сущность, настоящее и будущее России и человечества, Достоевский и Чернышевский остаются в пределах гуманистической культуры христианского летоисчиления.
В «Приложении» к диссертации приведены прямые взаимооценки и высказывания Достоевского и Чернышевского друг о друге.