Универсалия страха в повестях Н. В. Гоголя
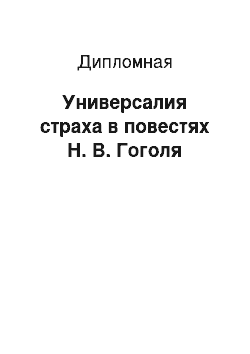
По сравнению с «Миргородом», страх несет здесь еще большую сюжетообразующую функцию, на нем основаны все сюжеты, но главное отличие состоит в том, что страх больше не представлен ситуативно и локально, теперь он охватывает текст полностью, и одновременно с этим предстает как элемент стиля (речевые фигуры и т. д). Он не выражен словами слишком отчетливо, но его незримое присутствие от этого… Читать ещё >
Универсалия страха в повестях Н. В. Гоголя (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Филологический факультет Кафедра русской литературы
«Универсалия страха в повестях Н. В. Гоголя»
Дипломная работа Специальность 31 001 — Филология Студент Баулина Кристина Николаевна,
5 курс, очная форма обучения Научный руководитель Козюра Евгений Олегович, кандидат филологических наук Воронеж 2014
Содержание Введение Глава 1. «Страх» в «Вечерах на хуторе близ Диканьки Модель позитивного переживания страха Модель негативного переживания страха Концептуализация страха в сниженном контексте Глава 2. «Страх» в «Миргороде Феномен красоты Профанный вариант «Вия Множественность явлений Глава 3. «Страх» в «Петербургских повестях
«Портрет От множественности к хаосу Женское начало
«Рим» как петербургская повесть Заключение Список литературы Методическое приложение страх переживание гоголь
Введение
Тема «Универсалия страха в повестях Н. В. Гоголя» на данный момент является малоизученной и практически не рассматривается в работах исследователей.
Собственно говоря, в этом и состоит актуальность нашей работы.
Материалом исследования стали три цикла повестей: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Петербургские повести».
Объектом исследования является комплексное изучение универсалии страха.
Цель работы заключается в том, чтобы понять механизмы функционирования данного явления, выявить некие схемы, закономерности.
Для начала стоит внести терминологическую ясность, что же мы подразумеваем под понятием «универсалия». Профессор А. А. Фаустов так определяет это явление: " …предложено понимание литературных универсалий как складывающихся в рамках определенного периода истории национальной литературы лексико-референтных единств, наделенных достаточной стабильностью и вместе с тем энергией изменчивости и варьирования и способных по-разному — в неодинаковом объеме и неодинаковых проекциях — воплощаться в различных авторских реальностях и конкретных текстах"[48; 4]. Скажем, что универсалии имеют смешанную, словесно-предметную структуру. Таким образом, условно выделяют 3 группы универсалий:
Характерологические Предметно-пространственные Модальные Такая классификация была разработана учеными Воронежского госуниверситета в рамках коллективной монографии «Универсалии русской литературы». Универсалия страха относится к группе модальных. Она, как и другие, диагностируется по лексическому/ономастическому компоненту.
«В литературных универсалиях слово составляет с воображаемым референтом нерасторжимое единство <�…> По мере того, как функционируют литературные универсалии, они притягивают к себе определенную лексику, образуя лексическое поле. То же самое происходит с мотивикой и другими элементами художественного мира. Можно сказать, что литературные универсалии материализуются через накапливающиеся, „налипающие“ вокруг них по мере развертывания лексику, мотивы, глубинные тропы, предметность и персонажей…» [45;2] - справедливо замечает К. А. Нагина.
Как было сказано выше, мы уделяем особое внимание изучению универсалии страха в ее культурологическом, литературоведческом и философском аспектах. И в работе мы, безусловно, не ограничимся лишь текстовым анализом. Следует сказать, что страх также правомерно рассматривать с точки зрения философии и психологии. Ведь данная категория до сих пор остается спорным вопросом, вызывает давний глубочайший интерес, восходит корнями к самым первым попыткам осмысления человеком собственной конечности, и осознания бессилия и растерянности перед бытием.
Подлинный страх возникает тогда, когда само существование для человека становится проблемой, когда самосознание открывает человеку его сиюминутность, открывает ему самого себя, как вечного странника, уединенного и объятого страхом.
Хотя практически все философские школы и направления, так или иначе, рассматривали проблему страха в рамках соответствующих мировоззренческих систем, задача поиска определения страха остается актуальной. Это связано с тем, что традиция мышления рассматривала страх, лишь в качестве случайного момента, психологизма, одного из других человеческих аффектов, эмоций страстей, сферой действия которых является душевное.
Более того, преобладающим являлся анализ отдельных форм и проявлений страха. Однако, вполне очевидно, что понимание природы, смысла страха невозможно проработать и раскрыть полностью, исходя из анализа какого-либо отдельного вида или отдельного аспекта, как нельзя средствами отдельного научного знания разобраться в структуре данного сложного явления.
Психоаналитическая философия анализирует рациональный страх — перед внешней опасностью и иррациональный как результат не актуализированных жизненных стремлений, подавление невоплощенных желаний.
Страх есть один из основных феноменов человеческого существования, противоречивый и динамично изменяющийся. Страх видоизменяется и аккумулируется, он никуда не исчезает, на смену одним страхам приходят другие.
Помимо традиционных работ, мы прибегли и к философскому знанию и рассмотрели различные подходы к пониманию природы страха. Эллинистическая философия обозначила идею рационализации страха, онтологическая модель страха представлена в учениях Р. Декарта, И. Канта, Г. В. Ф. Гегеля. А такие мыслители как С. Кьеркегор, М. Хайдеггер, Ж. П. Сартр рассматривают: эмпирический страх — боязнь конкретного предмета или обстоятельства; метафизический — страх перед «Ничто», конечностью бытия — неопределенный, безотчетный, «страх-тоска» и собственно экзистенциональный страх перед самим собой, перед своей возможностью и свободой.
Точное и подробное описание страха как бытийной категории дает Хайдеггер в работе «Бытие и время»: «Если угрожающее имеет характер наоборот целиком и полностью незнакомого, то страх становится жутью. А когда угрожающее встречает чертами жуткого и вместе с тем имеет еще черту встречности пугающего, внезапность, там страх становится ужасом. Дальнейшие видоизменения страха мы знаем как застенчивость, стеснительность, боязливость, ступор. Все модификации страха указывают как возможности расположения на то, что присутствие как бытие-в-мире «подвержено страху» [58;184]. Исходя из этого и пользуясь терминологией философа, мы можем сказать, что страх — это присущее, «внутримирное» чувство. Также Хайдеггер рассматривает «перед-чем страх», «о-чем страх» и «страх за.». Эта классификация многое объясняет в нашем исследовании, потому что в большинстве своем гоголевским героям присущ «перед-чем страх».
У Сартра же несколько иной взгляд на понятие страха, он рассматривает его через призму свободы. Страх, по Сартру, это не синоним боязни.
«Боязнь всегда направлена на что-то отличное от человеческой сущности, так, человек, идущий по тропе над пропастью, может бояться камнепада. Но если он опасается, что оступится и упадет или, даже, сам бросится в пропасть — это страх, а не боязнь. Человек, испытывающий страх, инстинктивно чувствует, как между прошлым и будущим вторгается ничто или свобода» [49; 10]. В нерефлективных актах человек не сознает это «ничто», отделяющее «сущность от выбора» и поэтому не испытывает страха. Сартр в этом примере сравнивает страх с головокружением, которое охватывает человека на краю пропасти. Человек может попытаться «спрятать» от себя свою свободу, попробовать переложить свою ответственность на общество, на других индивидов, наконец, на божественное предопределение, но это будет самообман.
Также мы обращались к книге С. Къеркегора «Страх и трепет». Здесь проблема страха рассматривается на конкретном примере, взятом из Ветхого завета, на примере истории Авраама. Автор рассматривает предпосылки христианской веры, как двигателя сознания, вины и страха перед Богом. Страх перед Богом есть путь к очищению и самопознанию, это положительное качество, которое ведет человека к совершенству.
В работе же «Понятие страха» Къеркегор останавливается на данном вопросе более подробно, но рассматривает его в несколько ином ракурсе. Здесь, в центр он помещает проблему первородного греха, как источника, постоянно сопровождающего христианина «страха и трепета». Страх здесь не эмоция, а глубокая философская концепция, на основе которой, как утверждает автор, зиждется вера вообще и христианство в частности. Работа очень противоречивая, и недаром сам философ относил ее к числу своих «легкомысленных сочинений».
От общей характеристики универсалии страха следует перейти к рассмотрению ее в контексте русской литературы. В последнее время это явление вызывает интерес у исследователей. По этому поводу еще раз вернемся к названной выше работе «Русские литературные универсалии», потому что в ней как нельзя лучше отражена динамика развития изучаемой категории.
Следует сказать, что в данной научной работе понятие страха рассматривается в широком литературном и историческом контексте. Исследователи приводят различные мнения, толкования и классификации универсалии, рассматривают всевозможные ее реализации. Авторы изучают страх и его оттенки на примере пяти культурно-семиотических эпох, и в каждой он проявляет себя по-разному. Правомерно считать, что перед нами некая семантическая и семиотическая эволюция данной категории.
Итак, в классической эпохе (как показывают статистические подсчеты) уровень страха самый высокий. Объекты и образы страха: грозный правитель, враги, неприятельские войска, Бог, божий гнев. Иногда мы имеем дело с категорией «страх-восторг» в контексте одического творчества.
В эпоху романтизма понимание «страшного» меняется, объектами и предметами становятся пришельцы из потустороннего мира, необъяснимые явления, «неведомое», рок. Выделение таких категорий связано с элегическим и балладным творчеством.
Критическая эпоха предоставляет нам рассмотрение «страшного» «прежде всего как ментального явления» [48;304]. Здесь страшны проявления неустроенности мира, дисгармонии, внутренние переживания, душевный разлад.
В реалистической эпохе, как оказалось, нет общей тенденции «страшного», оно репрезентировано конкретными авторами: Достоевский, Толстой, Чехов. Страх у Достоевского соседствует с такими категориями как «исступление», «восторг», «вранье», «визг», «стыд». Словом, носит ярко выраженный эмоциональный характер. Для творчества Толстого страх — это прежде всего страх смерти. Чеховские страхи связаны с категориями «обыденности», «пошлости жизни», «обывательство», «неведомая сила».
Модернизм настолько пропитан страхом, что это стало уже «привычным писательским ходом"[48;333]. Эта эпоха вобрала в себя все предыдущие образы и мотивы и возвела их в степень. Страх здесь стал сюжетообразующим компонентом.
Данная работа наглядно продемонстрировала трансформацию универсалии страха в контексте разных эпох, но в ней, среди всего прочего, специально не рассматривалось творчество Гоголя. А в дипломной работе речь пойдет о специфике воплощения универсалии страха именно на примере его произведений.
Но прежде скажем, что в литературоведении есть масса работ, в которых продуктивно рассматриваются все стороны и аспекты гоголевского творчества. Оно хорошо изучено и осмысленно в литературных и культурных кругах. Исследованы различные категории, архетипы, мотивы, выявлены связи и контексты. Посвятили себя изучению и анализу гоголевских текстов такие ученые как: Гуковский, Манн, Гольденберг, Кривонос, Вайскопф, Гончаров, Маркович и многие другие. О некоторых исследованиях стоит сказать отдельно.
Монография М. Вайскопфа «Сюжет Гоголя. Морфология, идеология, контекст» стоит в ряду фундаментальных работ о Гоголе. Нам она показалась интересной, потому что тема исследования имеет сходную логику и структуру. Автор исследует морфологию сюжета, его теологические и фольклорные составляющие. И начинает с «Вечеров.», как цикла основополагающего, повести которого носят «фольклорно-демонологический» характер. Затем идет рассмотрение повестей с нейтральной сюжетикой, которой свойствен «натуралистический гротеск» и бытовая сторона (часть цикла «Миргород», некоторые «Петербургские повести»). Затем третья группа, получившая философскую окраску. Но в ней есть место и демонологии: «В самом деле, фольклорная демонология будет свойственна и позднему Гоголю…» [9;14] В этом мы убеждаемся на примере «Петербургских повестей».
Помимо всего прочего, работа носит социальный характер, ученый пытается понять отношения самого автора к церкви, так как некоторые тексты имеют ярко выраженный антиклерикальный характер.
У Вайскопфа гоголевский текст трактуется как исключительно многоплановая структура, он рассматривает глубинные явления, казалось бы, на первый взгляд, даже не связанные между собой.
Другую сторону творчества писателя раскрывает нам А. Х. Гольденберг в работе «Архетипы в поэтике Гоголя». Исследование носит комплексный характер, сочетающий литературоведческие, искусствоведческие, фольклористические подходы. Автор дает двухаспектное представление архетипов: фольклорные и литературные. «Потребность в обращении к мифологии, традициям народной культуры и древним жанровым формам словесного творчества при изучении поэтики Н. В. Гоголя осознается как насущная необходимость…» [14; 6] И это на самом деле так, так как образы, созданные Гоголем стоят в галерее «вечных образов» литературы, потому что они архетипичны и базируются в сознании каждого человека. Исследователь по цепочке «миф — фольклор — литература» поэтапно рассматривает архетипы, репрезентированные в текстах, выявляет место данной категории в поэтике писателя. Исследуются свадебные, похоронные, ритуально-праздничные обряды в контексте циклов повестей (в том числе и выбранных нами для исследования), толкуется значение особых топосов, пребывание на которых сулит герою те или иные приключения (ярмарка, «заколдованное место», пустырь).
Одним словом, исследование дает ответы на многие вопросы, открывает суть тех явлений, которые изначально кажутся абсурдными.
Созвучным исследованием является работа В. Ш. Кривоноса «Мотивы художественной прозы Гоголя», в которой рассматриваются подобные вопросы, но немного под другим углом. Главное внимание уделено художественной трансформации фольклора и мифологии в поэтике Гоголя. В этом аспекте рассматриваются важнейшие мотивы прозы, тесно связанные с архаическими архетипами. В результате анализа обнаружились значимые особенности: мотив заколдованного пространства, мотив связи женщины с чертом и т. д. Комплексы мотивов находятся в четкой взаимосвязи, уяснив схему их распределения, порой, можно предугадать сюжет и понять, какую цель преследовал автор.
Все эти труды носят фундаментальный характер, касаются различных важных вопросов, но тема страха, как таковая в них не звучит. По этому вопросу существует мало работ, но, тем не менее, некоторые из них достойны внимания. Так, например, нас привлек сборник «Семиотика страха», который напрямую относится к нашему исследованию. Здесь рассматриваются разные аспекты данного явления. Стоит заметить, что в последние десятилетия тема страха очень привлекает различных ученых: лингвистов, политологов, социологов, историков, журналистов, культурологов. Страх осмысливается как нечто глобальное, всеобъемлющее, касающееся всех и каждого в условиях современного мира.
Исследователи разных стран дают свою трактовку и свое видение данного феномена. Лотман. М. Ю, например, говорит об общих механизмах функционирования страха в русской культуре, о том, что страх связан с политическими и историческими событиями в нашей стране. Рассматривает страх, как черту присущую русскому народу с царских времен. Причинами являются пограничное положение страны (вопрос Восток-Запад), политический режим и т. д. То есть страхи вполне реальные, социальные, жизненные.
Также привлекли наше внимание гоголеведческие работы Марил Виролайнен «Страх и смех в эстетике Гоголя» и Андре Монье «Страх живого у Гоголя», которые помогли нам понять и осмыслить некоторые вопросы в нашем исследовании.
Виролайнен утверждает, что страх неизменный попутчик смеха, и это действительно так, в доказательство автор приводит как раз те повести, где ужасные события разрешаются комически («Сорочинская ярмарка», «Майская ночь» и т. д). Отсюда сразу становится понятна особая мимика и особое поведение героев.
Монье пытается по-новому осмыслить «Петербургские повести», «Портрет» и «Шинель» в частности. Исследователь говорит, что гоголевский герой «живой мертвец» и, что само присутствие жизни пугает его. Он стремится к ней, но все попытки тщетны. Постоянный баланс между мирами, между живым и мертвым — вот характерный признак существования гоголевских персонажей.
Имея достаточные теоретические сведения об объектах и предметах страха, начнем исследование с изучения «внелитературных» интерпретаций страха и лексического его толкования.
Анализ текстов подвел нас к выводу о том, что в произведениях представлена почти вся семантическая группа лексемы страх (испуг, боязнь, ужас и т д). Данные слова употребляются ситуативно, и, для того чтобы понять их функционирование и смысловую нагрузку в художественном произведении, следует выяснить их значение. С этой целью мы обратились к «Толковому словарю живого великорусского языка» В. И. Даля. Словарь дает обширное толкование данных понятий.
Страх — 1) страсть, боязнь, робость сильное опасенье, тревожное состояние души от испуга, от грозящего или воображаемого бедствия («Страх обуяет и растеряешься»);
2) гроза, угроза или острастка; покорство устрашению, послушание; осознание ответственности («Страх Божий, благочестие как боязнь греха»);
3) страх (нареч.) — ужасно, страшно, весьма, очень; страх сколько много, без числа, несметно, тьма, пропасть, страх как сильно, больно или упорно («Страх, что народу было») [17; 336].
Одной из ипостасей страха является боязнь. Боязнь — страх, опасение, робость. Испугать — устрашить, заставить робеть или опасаться чего; нагнать на кого страх; заставить вздрогнуть от внезапности, неожиданности («Испуган зверь далече бежит») [17; 57].
Ужас — самое яркое и тяжелое проявлении страха. Ужас — состояние ужасающегося, внезапный и самый сильный страх, страсть, испуг, внутреннее содрогание, трепет от боязни и отвращения («Ужас объял меня») [17; 476].
Чувство, описываемое лексемой «боязнь», является наименьшей степенью страха, вполне осознается и контролируется («Боязнь овладевает мною. Не добро быть человеку с тобою вместе!») [1; 112]
(«Все боязливо стали осматриваться вокруг и шарить по углам…») [1; 21]
В лексеме «испуг», в отличие от остальных синонимов, зафиксированы признаки внезапности, кратковременности и непродолжительности. Причиной испуга может быть что-то неопасное, но в высшей степени неожиданное, так, что человек чувствует резкое изменение ситуации и ощущает, что не может изменить ход событий. Испуг, из-за кратковременности существования, не может сильно повлиять на поведение, но, тем не менее, отражается на персонаже («В испуге выбежала она в сени, но, опомнившись немного, хотела было помочь ему…» [1; 36];
(«Глянул себе под ноги — и пуще перепугался: пропасть!»)[1; 61];
(«Солоха, испугавшись сама, металась как угорелая…») [1; 75].
Необходимо отметить, что приведенные примеры подчеркивают, что испугать, значит заставить испытать страх из-за неожиданности.
Лексема «ужас» обозначает чувство, возникающее от осознания того, что человек бессилен перед обстоятельствами («Ужас оковал всех находившихся в хате») [1; 22];
(«Глянул — в ней перерезанная узда и к узде привязанный — о ужас! волосы его поднялись горою! — кусок красного рукава свитки!») [1; 25]. Ужас обозначает максимально интенсивное чувство.
Именно от этих данных мы будем отталкиваться в дальнейшем исследовании.
В заключение следует сказать о структуре работы. Она состоит из введения, трех частей, каждая из которых посвящена отдельному циклу повестей, приложения в виде урока литературы в 8 классе, заключения, и списка литературы в количестве 75 работ.
Глава 1."Страх" в «Вечерах на хуторе близ Диканьки»
В данной главе мы рассматриваем проявление категории страха на примере раннего творчества Гоголя, цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки».
Обратясь к текстам, проанализировав их, мы пришли к выводу, что в них представлена почти вся семантическая группа лексемы страх (испуг, боязнь, ужас и т д). Значение, смысловую нагрузку данных языковых единиц мы исследовали с помощью словаря Даля чуть выше.
И пришли к выводу, что употребление данных лексем и примеры подтверждают — концепт «страх» относится к ключевым в сознании Гоголя, и его отражение является одной из примет авторского стиля. Он имеет разные модификации, обладает разными качествами и по-разному отражается на героях. Чтобы это лучше понять, стоит перейти к более детальному анализу повестей на наличие данной категории.
В цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» включено 8 повестей, в каждой из которых понятие страха реализуется по-своему. Но, на основе проведенного анализа, можно заметить некую закономерность и условно разделить на блоки по принципу проявления страха, его влияния на судьбу персонажей и последствий. Таким образом, будем иметь 3 группы.
В первую включим повести, в которых переживание страха сыграло положительную роль в судьбе героев. К ней относятся: «Сорочинская ярмарка», «Майская ночь, или утопленница», Пропавшая грамота", «Ночь перед Рождеством».
Во вторую — повести, где страх сыграл негативную роль в жизни персонажей. Таковыми являются: «Вечер накануне Ивана Купала», «Страшная месть».
Но две повести из этого цикла нельзя отнести ни к одной из групп. Это «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» и «Заколдованное место». Они особенные и носят специфический характер, что и выделяет их из общей картины. Но мотивы страха в них присутствуют, и мы рассмотрим их специально Модель позитивного переживания страха Г. А. Гуковский утверждает, что Гоголь рисует в «Вечерах…» светлую и позитивную картину мира, строит образ светлой мечты о нормальной, естественной жизни, где торжествует красота, молодость и нравственное начало. «В этом мире и таинственные силы природы и мифологии любовно служат человеку. В этом мире даже черти вовсе не страшны, а, наоборот, довольно смирны, забавны и не лишены своей чертовской нравственности» [16;35] - говорит исследователь. Полагаясь на его мнение, мы начнем рассматривать повести с положительного проявления в них страха, более свойственного авторской манере и замыслу цикла. Затем перейдем к негативным его трансформациям, которые, по сути, являются аномалиями. Такая последовательность поможет нам проследить эволюцию данной категории в творчестве писателя.
Момент переживания страха, как правило, предваряется рассказ о каком-либо экстраординарном событии: будь то легенда о красной свитке в «Сорочинской ярмарке», или о панночке в «Майской ночи…». В «Пропавшей грамоте» слушатели просят рассказать Фому Григорьевича «яку-нибудь страховину казочку» [1; 55].
Вообще, проблема слова является одной из ключевых у Гоголя. Слово, произнесенное вслух, имеет очень большую смысловую нагрузку и магическую силу. Акт говорения сам по себе не случаен и обязательно связан со сферами иного, потустороннего. «…нечистая сила нападает на того, кто овладел словом божьим — если не в прямом, так переносном смысле» — утверждает Заславский [22;7]. Под «словом божьим» здесь подразумевается дар речи вообще, которого герои лишаются впоследствии. Они с любопытством и интересом ждут «озвучивания» того, что выходит за грани приемлемого, поэтому всюду им начинает казаться нечто подозрительное. Получается, что слово, как бы парадоксально это ни звучало, необходимо для существования нечистой силы, является, своего рода, ее активатором.
Жители «все теснее жались друг к другу, спокойствие разрушилось, и страх мешал всякому сомкнуть глаза…» [1;20]. Затем, непосредственно происходит само переживание страха. Оно различно. И в «Сорочинской ярмарке» среди очевидно комедийных перипетий происходит незримое вторжение инфернального, поэтому герои совершают спонтанные, смешные действия. Тандем страшного и смешного абсолютно органичен в гоголевской эстетике и не противоречит ей. Это нам и доказывают примеры.
(«Вареник остановился в горле у поповича…») [1; 19];
(«Высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок и ударился головою об перекладину…») [1; 22].
Аналогичные действия наблюдаются и в «Майской ночи…», когда парубки приводят в силу свой заговор. Это тоже создает комический эффект.
В «Пропавшей грамоте» потустороннее оборачивается смешными и комичными «харями»: «…на деда, не смотря на весь страх, смех напал, когда увидел, как черти с собачьими мордами и на немецких ножках, вертя хвостами, увивались около ведьм…» [1; 59]
В «Ночи перед Рождеством» также реализуется этот мотив переживания страха «со смехом пополам». Он наблюдается в действиях Солохи («Солоха сама металась как угорелая и, позабывшись, дала знак Чубу лезть в тот мешок, в котором сидел дьяк…»)[1; 75].
Страх тем или иным образом отражается на внешности героев, в совокупности с их поведением, и это одна из особых примет именно «Вечеров…». В данной группе характеристик страха наблюдаются очень интересные явления, происходящие с внешностью героев, которые впоследствии отразятся в «Петербургских повестях».
Во-первых, переживание столь сильных эмоций касается глаз. По этому признаку мы можем судить о внутреннем психологическом состоянии героя.
(«…глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить…») [1; 22];
(«…выпучив глаза и разинув рты…») [1; 37];
(«…тут вперила она бледные очи свои…») [1; 107];
(«…страшно вонзила в него очи Катерина…») [1;111].
Здесь мы видим «страх-испуг», который соседствует с эмоцией удивления, поражения, в некоторой степени восторга.
Во-вторых, с волосами происходят некие метаморфозы. Градация очевидна в степени «отделенности» волос от головы:
(«…волосы ерошились на голове…») [1; 36];
(«…волосы поднялись дыбом…») [1; 15];
(«…волосы его поднялись горою…») [1; 23];
(«…волосы стали отделяться на голове ее…») [1; 104];
(«…волосы его, казалось, хотели улететь на небо…») [1; 43].
В-третьих, еще одним из характерных признаков ощущения негативных эмоций, потрясений, является открывание рта героями. Оно зачастую проявляется в комплексе с определенным выражением глаз.
(«…кум, с разинутым ртом…») [1;20];
(«…не в состоянии были сомкнуть дружно разинутых ртов своих…») [1;44].
Своеобразное следствие данных явлений — мотив «окаменения», «остолбенения» героев. «Окаменеть», по Вайскопфу, «с точки зрения пространственной семантики», значит «остановиться и начать блуждать» [21;67] .
(«Ужас оковал всех находившихся в хате…») [1;22];
(«Кум, выведенный из своего окаменения вторичным испугом…») [1;22];
(«Все обступили ее и окаменели от страха…») [1;108];
(«Как будто окаменев, не сдвинувшись с места, слушал Петро, когда невинное дитя лепетало ему Пидоркины речи») [1; 34].
Страх является поворотным моментом в сюжете. Это кульминация конфликта, а уже после, события разрешаются в ту или иную сторону, и жизнь героев кардинально меняется, переходит на новую ступень развития.
Так, в «Сорочинской ярмарке» судьба Грицька и Параски складывается весьма благополучно («…сегодня свадьбу, да и концы в воду!») [1; 26]. Тоже свадьбой заканчиваются переживания Левко и Ганы («Свадьбу? Дал бы я тебе свадьбу… Ну для именитого гостя… завтра вас поп и обвенчает») [1, 54]. По аналогичному сценарию, счастье двух влюбленных кладет конец всем ужасам в «Ночи перед Рождеством» («Добре! Присылай сватов!») [1; 89]. В «Пропавшей грамоте» автор вознаграждает героя за пережитые им страдания («Царица велела ему насыпать целую шапку синицами») [1; 61].
«Семантические комплексы «любовь — брак/семья», «мужчина — женщина» составляют тематическое ядро сюжетов «Вечеров…"[15;4 ] - справедливо замечает Гончаров. С. А. Следует сказать, что такой положительный исход, как воссоединение влюбленных, прошедших через испытания, имеет связь не только с романтической традицией, но и уходит корнями в обрядовость. Для того чтобы завоевать любовь, герой должен вступить в контакт с «иным» миром, совершить некие действия и победить нечисть. Как раз на этом этапе он вовлечен в мифологическое пространство и подвержен воздействию различного рода страхов. Но, по закрепленному сюжету, герой выходит победителем и вознагражден разрешением на брак. Стремление к браку — это сакральный мотив воссоединения, создания некоего Абсолюта и равновесия во вселенной. Получается, что страх в первой группе имеет относительно созидательный характер.
Модель негативного переживания страха Рассмотрев повести с положительным проявлением страха, проанализируем его негативную трансформацию в «Вечере накануне Ивана Купала» и «Страшной мести».
Схема прохождения героев через негативные эмоции аналогична, но здесь она немного усложнена и дополнена некоторыми образами и мотивами. Опять же, все начинается с рассказа о каком-нибудь чудесном случае («…дивные речи… не занимали нас так, как рассказы про какое-нибудь страшное чудное дело, от которых всегда дрожь проходила по телу и волосы ерошились на голове. Иной раз страх, бывало, такой заберет от них, что все с вечера показывается Бог знает каким чудищем «) [1; 30]. Но помимо абстрактной истории, здесь появляется конкретный субъект, который влечет за собой переживание страха («В этом-то хуторе показывался часто человек, или, лучше, дьявол в человеческом образе».. «Басаврюк, — так называли этого бесовского человека…») [1; 30]. Мы видим, что во второй группе страх приобретает конкретные очертания, лицо.
После встречи и взаимодействия с этим существом в жизни героя начинают происходить странные вещи. Страх из мгновенного всплеска эмоций превращается в постоянно преследующее чувство, не дающее ему покоя, мешающее жить. Страх становится состоянием души. В данной группе он не поверхностный и заметен не столько во внешности, сколько во внутреннем состоянии. Меняются привычки, поведение, отношения с другими персонажами. Здесь страх затрагивает глубины сознания героя, не забывается, продолжает развиваться, трансформируя его психику.
В «Вечере…» Петро из «безродного» и «бедного» превращается в убийцу («Глаза его загорелись… ум помутился… как безумный, ухватился он за нож, и безвинная кровь брызнула ему в очи.») [1; 34]. Убивая невинное дитя, он обрекает себя на муки и страдания. С этого момента мы можем наблюдать определенные изменения в его жизни. С данным фактом также связан мотив потери памяти.
(«…но напрасно старался что-нибудь припомнить: память его была как карман старого скряги, из которого полушки не выманишь…») [1; 34];
(«…все силится припомнить что-то; и сердится, злится, что не может вспомнить…») [1; 36];
Потеря памяти имеет серьезные последствия: пропадают контакты с внешним миром, и герой перестает в нем ориентироваться. А главное, утрачивает связь со своим прошлым, то есть выпадает из социума, перестает быть частью целого. Петро и так был «безродным», а при потере памяти вообще утратил какую-либо связь с миром, выключился из него. Смерть приходит, как логическое завершение трагической судьбы, потому что человек, выпавший из жизни, из рода не сможет существовать отдельно.
Также характерной особенностью данной группы повестей является то, что здесь герой противостоит страху один на один. А, например, в «Майской ночи…» или «Сорочинской ярмарке» данная эмоция распространяется на весь коллектив. Имеется в виду, что сами сцены переживания страха различны по количеству в них участников. А это свидетельствует уже о более глубоком восприятии данной эмоции. Если в коллективе она делится на всех и, следовательно, «доза» ее для каждого в отдельности мала, то здесь весь поток негативной энергии направлен на одного героя. И, как видим, он не справляется и погибает.
С тем, что персонажи не способны выдержать такого психологического давления, связан мотив безумия, потери рассудка. Страх здесь прогрессирует как болезнь: сначала потеря памяти (выпадение из общества), затем потеря разума. «Конечно, утрата ума (безумие) и «души» есть состояние магическое, состояние временной смерти, глубоко созвучное «очищению ума» в практике исихазма и родственных мистических учений, оказавших огромное воздействие на романтизм <�…> У Гоголя положение осложнено тем, что вместе с разумом герой утрачивает прежнее благочестие, общую благонамеренность, и это обстоятельство естественно сочетается как с его обращением за помощью к нечистой силе, принимающей на себя роль мудрого учителя…"[9; 111] - замечает М. Вайскопф.
(«Все пошло кругом в голове его. Собравши все силы бросился бежать он… огненные пятна, что молнии мерещились в его глазах.») [1; 34];
(«…как безумный ухватился он за нож…») [1; 34];
(«…Катерина не глядит ни на кого, не боится, безумная, русалок, бегает поздно с ножом своим и ищет отца») [1; 109].
Несмотря на то, что «Страшная месть» включена нами во вторую группу повестей по признаку проявления страха, она все же не поддается классификации и приведению в систему. Модель здесь несколько иная и ее стоит рассмотреть отдельно. «Все здесь подано наиярчайшее, нигде нет прописей; все, надлежащее быть прочитанным, показано как бы под вуалью приема, единственного в своем роде. Не осознав его, — ничего не прочтешь; и только ослепнешь от яркости образов. Сила достижений невероятна в „Страшной мести“; только „Мертвые души“ оспаривают произведение это» — писал Андрей Белый [3; 39].
В самом названии повести уже заложена рассматриваемая нами категория. «Страшная месть» содержит в себе страх a priori, нам не нужно искать его проявление, потому что все повествование пронизано этим чувством. Страх определяет всю композицию произведения. Текст построен, как череда сменяющих друг друга страшных событий. Страх здесь не эмоция, а художественный прием, помогающий нам лучше понять замысел автора. Мы наблюдаем, что в повести нет ни одного радостного события, даже сцена свадьбы омрачена появлением колдуна. Герои то и дело говорят о том, что они чего-то боятся, они постоянно находятся в эпицентре негативных событий. Здесь ломается схема переживания страха, рассматриваемая нами ранее. О текстообразующей функции страха можно судить уже потому, что применительно к любому событию в своей жизни, даже самому незначительному, герои употребляют данную лексему («…Меня устрашили чудные рассказы про колдуна») [1; 93];
(«Ровно и страшно бились козаки») [1; 96];
(«Мне, однако ж, страшно оставаться одной») [1; 98];
(«О, как страшно, как трудно будет мне перед ним говорить неправду») [1;103];
(«Страшен, страшен привиделся он мне во сне!») [1; 108].
Это чувство изначально заложено в сознании героев. Создается впечатление, что они программируют развитие своей жизни по негативному сценарию. Кажется, что они уже предвидят свой несчастливый конец, как, например, пан Данило («Как-то тяжело мне! Видно, где-то недалеко уже ходит смерть моя») [1; 104].
Герои знают причину своих бед, она имеет конкретное лицо, но ничего не могут с этим поделать («…все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их козака. Кто он таков — никто не знал… Колдун показался снова!») [1; 91]. Колдун взаимодействует с двумя героями сразу, но на разных уровнях. На Катерину и ее душу, он влияет с помощью сновидений. На основе этого, мы можем выделить мотив «страшного сна», «ночного кошмара». Сны Катерины расположены в порядке усиления чувства страха и усугубления последствий.
В первый раз «…снилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видели у есаула…» [1; 97]. Колдун предлагает ей богопротивное дело — инцест («Ты посмотри на меня, Катерина, как я хорош… Я буду тебе славным мужем!») [ 1; 97 ].
Во второй раз колдун вызывает душу Катерины, снова требуя от нее любви, но получает отказ.
Третий сон, своего рода кульминация. Колдун угрожает убийством единственного сына («Я зарублю твое дитя, Катерина… если не выйдешь за меня замуж!») [1; 108]. Так и происходит на самом деле.
(«Все обступили колыбель и окаменели от страха, увидевши, что в ней лежало не живое дитя») [1; 108].
Итогом всех этих манипуляций с ее сознанием является сумасшествие.
С Данилой колдун конфликтовал открыто и воздействовали они друг на друга физически. У них тоже было три поединка, расположенных в известной нам последовательности.
Сначала, в схватке колдун ранит казака в левую руку. Затем Данило ловит его и сажает в заточение в подвал (но вмешательство Катерины помогает злодею освободиться). И, наконец, на войне колдуну удается физически уничтожить Данилу («…и весь закипел от ярости: ему показался Катеринин отец. Вот он стоит на горе и целит на него мушкет. Данило погнал коня прямо к нему… Козак, на гибель идешь… Мушкет гремит — и колдун пропал за горою») [1; 106].
Все произошедшие события являются роковыми. Всем ходом повествования автор стремится нам показать, что иначе быть не могло, что все предопределено свыше. Когда судьба Данилы и Катерины становится нам известна, то кажется, что зло (в лице колдуна) должно восторжествовать, но нет. Его судьба тоже предопределена заранее, и, несмотря на все попытки, ему не удается избежать кары. Так же в повести ярко выражена символика сакрального числа 3 (число испытаний в сказках). Три раза является во сне колдун Катерине, три раза пытается убить Данилу, три мести осуществляются по ходу действия (месть колдуна Катерине за отказ стать его женой; месть Даниле; «страшная месть» колдуну). Но если в сказке герой проходит испытания и все заканчивается благополучно, то здесь этот мотив инвертирован. Герои терпят все большие и большие неудачи одну за другой и в итоге погибают. В этом отчасти и заключается острота сюжета.
В итоге, можно прийти к выводу, что «Страшная месть», где категория страха, как кажется, лежит на поверхности, является сложнейшим произведением и занимает особое место в нашем исследовании. На ее примере мы убедились, что категория страха может проявляться не только внешне в тексте, с помощью каких-либо лексических средств, присутствовать в поведении и наружности героев, но и служить построению композиции текста отражению его внутренней структуры.
Концептуализация страха в сниженном контексте Наконец, в третью группу, в соответствии с нашей классификацией, мы включим повести «Заколдованное место» и «Иван Федорович Шпонька и его тетушка».
В «Заколдованном месте» проявление страха, как такового, мы не наблюдаем. Здесь эта категория выступает в несколько ином контексте. Дьявольская сила «морочит» деда, но он не боится, а наоборот, упорно старается добыть клад. Им правит в тот момент алчность, а не страх. Заколдованное место здесь — «выход» из бытового пространства в волшебное. Дед оказывается на границе этих двух миров и с ним происходят странные события. Они, безусловно, отражаются на его жизни, но не вносят в нее какихлибо качественных изменений. В данной повести все, исследованное нами ранее, пародийно снижается. Нечистая сила, угрожающая жизни героев, становится морочащим, пытающимся запутать чертом, страх превращается в мгновенный испуг, вызываемый обстоятельствами. В итоге, жадность деда сыграла с ним злую шутку: клад оказался ненастоящим, и родные подняли его на смех. Но в то же время, этот случай демонстрирует небольшие изменения в его сознании, с тех пор «заклял и нас дед верить когда-либо черту» [1; 136].
В аналогичной манере выдержана и повесть «Иван Федорович Шпонька и его тетушка». Здесь все магическое, встреченное нами ранее в других повестях, снижается до бытового уровня. Субъектами страха тут являются обычные люди и предметы. Так же, как в «Вечере…» и «Страшной мести», герой противостоит своему страху в одиночку. Об этом свидетельствует, например, эпизод с учителем латинского языка «которого кашель один в сенях, прежде нежели высовывалась в дверь его фризовая шинель и лицо, изукрашенное оспою, наводили страх на весь класс») [1; 117]. Учитель предстает перед нами, как некое загадочное существо из потустороннего мира («Тогда только с ужасом очнулся он, когда страшная рука, протянувшись из фризовой шинели, ухватила его за ухо и вытащила на середину класса!») [1;117]. Он выделяет Шпоньку из общей массы, из толпы, тем самым, наводя на него страх. Иван Федорович переживает этот психологический надлом и после этого «робость, и без того неразлучная с ним увеличивалась еще более» [1; 117]. Так или иначе, но данный случай повлиял на дальнейшую судьбу героя, не в такой степени, как в «Вечере…», например, но все же.
Еще в повести присутствует страх Шпоньки перед своей тетушкой, а если говорить обобщенно, то перед женским началом в целом. Мотив связи женщины с чертом отнюдь не метафоричен. Гоголевские героини сами в избытке наделены бесовской способностью сеять дурные внушения и управлять мыслями. Женщина у Гоголя выступает посредником между человеческим миром и миром нечисти, так как принадлежит, согласно бытующим представлениям, обоим этим мирам. Стоит хотя бы вспомнить Солоху из «Ночи перед Рождеством», или мачеху из «Сорочинской ярмарки». А в данной повести как нельзя лучше высказанным выше положениям соответствует тетушка («…Рост она имела почти исполинский, дородность и силу совершенно соразмерную <�…> ей больше всего шли бы драгунские усы и длинные ботфорты. Зато занятия ее совершенно соответствовали ее виду: она каталась сама на лодке, <…> стреляла дичь, <…> била ленивых вассалов своею страшною рукою…») [1; 122]. В добавление к ужасающему портрету, она еще имела тяжелый характер («…Василиса Кашпоровна хоть кого умела сделать ниже травы») [1; 122]. Образ тетушки созвучен образам злодеев, например Басаврюка, или колдуна.
Страх перед женским началом вообще трансформируется в страх перед женитьбой. По структуре свадьба является обрядом инициации: она подводит черту под прошлым и закладывает основы будущей жизни. А страх закрывает перед героем возможность приближения к совершенству, к целостности. Он боится менять свое прежнее состояние на более новое, неизвестное ему. Это действо для него сравнимо с сошествием в ад.
Мотив сновидения Гоголь здесь подвергает комической обработке. Герою снится сон, вовлекающий его в сказочно-мифологическое пространство. «Сновиденческая жена Шпоньки вызывает ассоциации с фольклорным образом звериной жены; отсюда демонический фон сновидения, наводящий на героя страх» [29;93] - пишет В. Ш. Кривонос. И это на самом деле так («…то снилось ему, что вокруг него все шумит, вертится, а он бежит, бежит, не чувствуя под собою ног <…> вот уже выбился из сил <…> Вдруг кто-то хватает его за ухо. «Ай! кто это?» — «Это я, твоя жена!») [1;130]. Эпизод, где Ивану Федоровичу снится много жен с гусиными лицами, напоминает нам сцену из «Пропавшей грамоты» (встреча деда и нечистой силы).
(«…На стуле сидит жена. Ему страшно: он не знает, как подойти к ней, что говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону и видит другую жену, тоже с гусиным лицом») [1; 131]. Несмотря на то, что повесть все же больше носит бытовой характер, в ней очень ярко изображены психологические переживания героя, его состояние до и после всех произошедших событий.
Проведя анализ данной группы, мы можем убедиться, что категория страха присутствует в произведениях Гоголя даже там, где ее совсем не ожидаешь встретить. Она, может быть, и связана с простой обывательской жизнью, но представляет такой же интерес, как и фантастика.
Исходя из всего вышесказанного, можно заключить, что цикл «Вечера…» являет нам широкий спектр разного рода страхов и его реализаций: от мгновенного испуга до всеохватного ужаса. Также страх здесь разнороден и по функциям: может быть созидательным, деструктивным и нести некое комическое снижение происходящего. А ряд мотивов, заключенных здесь, подводят читателя к новому сборнику «Миргород», где страх и зло вовсе будут растворены в обыденности.
Глава 2."Страх" в «Миргороде»
Мы продолжаем рассмотрение проявлений категории страха на следующем этапе творчества Гоголя, а материалом для исследования стали произведения цикла «Миргород».
Изучая повести «Миргорода» мы убедились, что автор не зря назвал их продолжением «Вечеров», так как и в них присутствует определенная схема распределения страшных эмоций и прослеживаются сходные комплексы мотивов. «Тенденция, обозначенная в „Вечерах“, свое завершение найдет в цикле „Миргород“, который неслучайно обозначен как продолжение „Вечеров“. Здесь стихийный мифологизм Гоголя логично соотнесся с мистицизмом и завершил разрушение всех позитивных аспектов мира и человека» [15;269] - замечает С. А. Гончаров. Специфика страха в «Вечерах…» несколько иная, нежели в «Миргороде»: переживание страха является там переломным моментом в жизни героев, это, как правило, однократная сильная эмоция, кардинально меняющая жизнь героя. Объектами страха являются мистические существа и странные события. Эта эмоция ярче отражена во внешности, нежели в сознании или психике. Вот основные отличия от страха «миргородского», приземленного, овеществленного, исполненного в более реалистичном ключе.
Феномен красоты В течение нашего исследования, мы обнаружили, что феномены красивого и страшного у Гоголя параллельны. Все, что скрывается под маской красивого, рано или поздно может представить опасность для человеческого существования. Это доказывает и психология. «Известный механизм психологической защиты — смещение (перемещение акцента восприятия с главной проблемы на ее символ — второстепенную проблему) — подготавливает психику для дальнейшего шага, включение механизма инверсии, превращение отрицательных эмоций в положительные. Через этот механизм прослеживается причинно-следственная связь травмирующего (опасного) и привлекательного (красивого). Например, дикая природа одновременно опасна и привлекательна. Данная закономерность пронизывает все сферы человеческой жизни» [23;1].
Как известно, все красивое притягивает, а человек не осознает всей опасности и подпадает под данное влияние. Этот феномен наблюдается и у Гоголя. Понятия «страх» и «красота» в некоторых ситуациях идут рука об руку. Страшное, по сути, облекается в формы красивого и действует на героя соответствующим образом Красота есть причина страха, она скрывает истинную сущность объекта от человеческих глаз, и тем ужаснее последствия ее воздействия.
В то же время, это понятие подразумевает исключительно женскую красоту. И в данном цикле, в некоторых повестях, герои страдают именно из-за женской «страшной» красоты и сущности " … повести завершаются крушением миропорядка, важнейшим источником которого выступает «женское» в разных ипостасях. Соединение красоты с «чужим» миром ввело непреодолимое противоречие. Ликвидация женского приводит к еще более катастрофическим последствиям — мир теряет смысл, превращаясь в абсурд и стихию власти материи" [15;270] - говорит С. А. Гончаров.
Она действует на героев гипнотически, вводит их в состояние, в котором они не способны управлять своей волей. Чтобы не быть голословными, следует обратиться к примерам.
Красота является сильнейшим эмоциональным оружием в руках героинь-женщин. И этому влиянию поддается младший брат — Андрий («Потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за восемнадцать лет. Женщина стала чаще представляться мечтам его…»)[1;162]. Первая встреча с женской красотой сбивает его с толку, выбивает почву из-под ног в буквальном смысле («…шлепнулся на землю, прямо лицом в грязь…») [1;162] и изменяет всю его дальнейшую жизнь. Судя по событиям, мы можем сказать, что взаимодействие красоты и страха образует здесь отлаженный механизм. Если она приводит в движение, оживляет жизнь героя, то страх — напротив, парализует. После столкновения с женщиной вообще и с панночкой в частности, героя начинает преследовать череда «неслучайных» случайностей, негативных событий. Например, по дороге из Сечи, сопровождаемый служанкой, он наталкивается на спящего Тараса и т. д. Когда Андрий находится под влиянием красоты, он условно ослеплен, его взор направлен лишь к девушке, и он не может трезво оценивать окружающую обстановку.
Тарас же, напротив, лишен страха. Это чувство сосредоточено в его жене, и как следствие, нейтрализует ее красоту. Страх есть причина потери этой красоты. В «Тарасе Бульбе» мать Андрия и Остапа растеряла всю свою внешнюю привлекательность под влиянием страха перед мужем («Она терпела оскорбления, даже побои; она видела из милости только оказываемые ласки, она была какое-то странное существо в этом сборище безженных рыцарей…») [1;159], страха за сыновей («Ее сыновей, ее милых сыновей берут от нее, для того, чтобы не увидеть их никогда! Кто знает, может быть, при первой битве татарин срубит им головы…») [1;159].
Примечательно то, что красота влияет на героев так, как будто это какой-либо магический объект или гость из потустороннего мира. Это заключение нам позволил сделать сходный комплекс мотивов, связанных с переживанием страха, из нашего прошлого исследования. Здесь присутствует и мотив остолбенения, окаменения.
(«…бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робости пошевелить рукою…») [1;162] ;
(«Бурсак не мог пошевелить рукою, и был связан, как в мешке…»)[1;163];
(«…увидел женщину, казалось, застывшую и окаменевшую в каком-то быстром движении») [1;185].
Мотив онемения, потери дара речи. Заславский утверждает, что герой не способен противостоять этому процессу, особенно в связи с нечистой силой: «…она …лишает своих жертв дара речи или обрушивается на бессловесных…» [22;18].
(«Почувствовал он что-то загородившее ему уста: звук отнялся у слова…») [1;186];
(«И пусть бы выразило чье-нибудь слово… но не властно выразить…») [1;186].
Новым во всем этом будет являться мотив слез, сопровождающий, как женщин, так и мужчин. Слезы проливает мать Остапа и Андрия, когда видит их в последний раз.
(«…она расчесывала гребнем их молодые, небрежно всклокоченные кудри и смачивала их слезами…»)[1;158];
(«…слезы остановились в морщинах…»)[1;158];
(«…она со слезами готовила все…») [1;159] ;
(«…слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее») [1;159].
Скупая мужская слеза катится из глаз Тараса от воспоминаний о былой жизни («Слеза тихо круглилась на его зенице, и поседевшая голова его уныло понурилась») [1;160] и перед самой смертью («Эх, старость, старость!» — сказал он, и заплакал дебелый старый козак") [1;221].
В тоже время слезы панночки, слезы благодарности и безысходности.
(«…смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала…») [1;188];
(«…слезы ее текли ручьями к нему на лицо…») [1;188];
(«…и все, от печально поникшего лба и опустившихся очей, до слез, застывших и засохнувших…») [1;188].
Какую же роль здесь играют слезы? Являясь общераспространенной психосоматической реакцией, слезы могут быть проявлением как отрицательных (печаль, тоска, страдание, гнев, страх), так и положительных эмоций (радость, восторг, воодушевление). Слезы также имеют важное социокультурное и мифологическое значение. Слезы очень часто сопровождают плачи и являются общепринятым символическим физиологическим проявлением печали и скорби. Поэтому закономерно их появление в ситуациях утраты (прощание, расставание, смерть) и сильных переживаний (неприятных и эмоционально окрашенных воспоминаний, чувства горечи, обиды, тоски, страдания), которые можно охарактеризовать как экстремальные или тесно связанные с нашим представлением об экстремальности. Несомненно, слезы уходят корнями в народные традиции. Это не только естественное выражение горя, но и форма ритуального поведения.
За один из вариантов возьмем предположение, что мать Андрия и Остапа проливает слезы именно по этой причине, она понимает, что ее сыновья, равно как и муж, не вернутся и хочет, чтобы их души были упокоены.
Слезы же панночки, в данном контексте, могут соответствовать традиционному обряду перехода. Она соотносится с невестой, которая прощается со своим домом и родными — это с одной стороны, а с другой — она, возможно, тоже оплакивает будущую гибель своего возлюбленного и свою участь.
В «Вие» мы видим инвертированный сюжет. Здесь, в отличие от «Тараса Бульбы», красота приняла отталкивающие формы и перестала являться объектом страха. Хома не боится старухи, ее поведение приводит его в недоумение, не больше. Автор даже утверждает, что («Он чувствовал бесовски сладкое чувство, он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно-страшное наслаждение «) [1;228].
А страх одолевает его лишь тогда, когда он видит, что старуха приняла прекрасные очертания («Он стал на ноги и посмотрел ей в очи <�…> Перед ним лежала красавица, с растрепанною роскошной косою, с длинными, как стрелы, ресницами») [1;229]. И, следовательно, механизм меняется. В данном случае созерцание красоты парализует героя, а страх приводит его в движение и заставляет решительно действовать.
И предвещающие конец, лились слезы, неизменные спутники смерти («…возвела кверху очи, полные слез») [1;229]. Хома при этом «затрепетал как древесный лист». Несомненно, от испуга, но в большей степени от осознания того, что он уничтожил это прекрасное создание.
А непосредственно объектом страха панночка становится лишь после смерти и ошеломляет героя уже не живая, пленяющая красота, а красота «мертвая», «страшная и сверкающая». («Трепет пробежал по жилам его: перед ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Казалось, никогда еще черты не были образованы в такой редкой и вместе гармонической красоте. Она лежала как живая») [1;235].
С феноменом красоты связан феномен зрения в «Вие». На протяжении всего произведения, мы можем проследить тенденцию автора, делать акцент на взгляды героев и их глаза. Ведь во взгляде заложено нечто, что может связать сознания двух существ. С помощью взгляда можно проникнуть в душу и сознание человека и даже изменить его. Во взгляде отражена вся незащищенная суть человека. Заглядывающий же в глаза, стремится воздействовать, вызвать тревогу и страх, завладеть душой или определенным знанием ему недоступным. Так и происходит с Хомой. Взгляды преследуют его повсюду, и пока он сопротивляется и не смотрит — остается в живых, как только его взгляд соприкасается с взглядом Вия — умирает.
Ярким примером этого могут служить три (традиционное для русского фольклора число) ночи отпевания. На их протяжении идет «поединок взглядов» Хомы и панночки. Схематично это выглядит как драматическое произведение:
Хома: («Он дико взглянул и протер глаза») [1; 240];
Панночка: («…и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами» [1;239];
Хома: («Хома не имел духа взглянуть на нее») [1; 240];
Панночка: («Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои») [1;240];
Хома (после первой ночи: («…глядел на всех необыкновенно сладкими глазами») [1;240].
Примечательно то, что ведьма и в образе старухи, и в образе панночки ведет себя как слепая, потому что не находит отзыва во взоре Хомы. Этот мотив ослепления от страха подтверждает и Монтень: «И впрямь, я наблюдал немало людей, становившихся невменяемыми под влиянием страха; впрочем, даже у наиболее уравновешенных страх, пока длится его приступ, может порождать ужасное ослепление» [41;1].
(«Но старуха раздвигала руки и ловила его, ни говоря ни слова») [1; 227];
(«Она встала… идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь») [1;240].
Хома под защитой, пока он не смотрит, но какая-то непреодолимая сила все время соблазняет его на этот поступок. То он «повел глазами на гроб», то косится «слегка одним глазом». Философ старается сопротивляться «потупив очи в книгу» и «зажмурив глаза». Но это не помогает, любопытство берет верх («Не гляди! «- шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул «) [1; 245]. Потусторонние силы завладели его душой с помощью одного лишь взгляда «вылетел дух из него от страха».
Символически взаимодействие Хомы и ведьмы может быть обозначено как «игра в прятки». Так, Потебня, в своем исследовании приводит игру «в жмачки», «в жмурки», но по-чешски она звучит как «slepa baba» (что буквально означает «слепая баба»), что дает нам ключ к разгадке гоголевского сценария. Затем автор дает описание некоего фольклорного сюжета, по которому царевна обещает выйти за того, кто ее 3 раза найдет, или за того, кто от нее 3 раза спрячется. В этом сюжете явно прослеживается поведение Хомы, который прячется от «царевны», «награжденной», в свою очередь, так называемой слепотой.
Также исследователь дает еще трактовки слепоты героев: «Можно догадываться, что слепота Бабы значит безобразие. Представления тьмы, слепоты и безобразия сродны и могут заменять одно другое» [47; 93].
«Возможно также, что Баба в жмурках представляется слепою не только в смысле мрака — безобразия, но и в смысле мрака — смерти» [47; 94]. Последнее утверждение и открывает нам истинную суть взаимодействия данных героев, конкретно для Хомы это оказалось игрой со смертью.
Интересную мысль высказывает немецкая исследовательница Наташа Друбек-Майер. Она сравнивает гоголевского Хому с гофмановским Натаниэлем из «Песочного человека». Эти герои испытывают сходные проблемы, лишь с той оговоркой, что Натаниэль заведомо боится потерять зрение, а Хома об этом не думает. Майер приводит очень интересную трактовку страха потери зрения: «Фрейд с помощью этой повести хочет показать, что страх потери глаз равняется кастрационному страху, кроме того, дает психологическое объяснение феномену „чудовищно-странного“, присущего многим фантастическим текстам романтизма: это издавна знакомое, но вытесненное, которое просится наружу» [18; 55]. Необычный факт, но в контексте нашего исследования, мы вполне допускаем мысль о том, что Хома не только просто боялся, но у него также работал подсознательный инстинкт самосохранения своей функции продолжения рода.
Окружающие видят объективную причину гибели Хомы. По словам Тиберия Горобца: «…пропал он: оттого что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не смогла с ним сделать» [1;246]. Значит, он считает его слабым и думает, что только слабые боятся. Отчасти это так и по Кьеркегору «…страх — это нечто весьма опасное для слабых…» [30;30].
Профанный вариант «Вия»
«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», казалось бы, не вписывается в нашу концепцию рассмотрения страха. На первый взгляд, здесь нет ни объектов, ни предметов его вызывающих. Но есть женское начало. И страх здесь аналогично приводит героя в движение, насыщает его жизнь событиями.
При детальном анализе, мы заключили, что «Повесть…» — профанный вариант «Вия». Неожиданный вывод, но, тем не менее, он имеет под собой некоторые основания.
Начнем с того, что выше мы выясняли взаимосвязь страха и женского начала. Здесь она присутствует опосредованно, не явно, так как оба героя были изначально «освобождены» от женского влияния. Иван Иванович «уже более десяти лет, как овдовел» [1; 248], а «Иван Никифорович не был женат» [1; 248]. До конца от женского воздействия все же освободиться не удается. Некая Агафья Федосеевна становится тождественна ведьме в «Вие». Она усугубляет и без того натянутые отношения между Иваном Ивановичем и Иваном Никифоровичем («Шушукала, шушукала проклятая баба и сделала то, что Иван Никифорович слышать не хотел об Иване Ивановиче») [1;257]. «Шушуканье» в нашем контексте мы вполне можем воспринять как своего рода заговор.
Есть еще один важный аспект, роднящий «Вия» с «Повестью…» на предмет содержания чувства страха — это хвост («…пронесли было, что Иван Никифорович родился с хвостом назади «) [1; 248]. Он же является и одним из характерных признаков ведьмы в «Вие». На него нужно плюнуть, чтобы она исчезла («…известно, что у одних только ведьм, и то у весьма немногих есть назад хвост, которые принадлежат более к женскому полу, нежели к мужескому») [1; 249]. Но мы убеждаемся в обратном. Получается, что мужское и женское начало здесь меняются местами. Сюжет инвертируется и объектом страха, как это ни удивительно, становится сам Иван Никифорович и все, что его окружает.
С этих пор нам становится абсолютно понятной модель поведения Ивана Ивановича. Он, в данном контексте, тождественен Хоме Бруту, если предположить, что Иван Никифорович для него объект страха. Подпилить три столбика от сарая для него также затруднительно и страшно, как и Хоме читать три ночи молитвы над панночкой. Здесь они испытывают сходные чувства, а вследствие этого, мотив зрения, безусловно, повторяется.
(«Первый столб был подпилен; Иван Иванович принялся за другой. Глаза его горели и ничего не видели от страха…») [1;258];
Эмоции и чувства нарастают все стремительнее, здесь переживание страха достигает своего апогея.
(«И второй столб подпилен: здание пошатнулось. Сердце у Ивана Ивановича начало так сильно биться, когда он принялся за третий, что он несколько раз прекращал работу…») [1;258].
Его бегство ассоциируется с попыткой Хомы спастись в одну из ночей.
(«Схвативши пилу, в страшном испуге прибежал домой и бросился на кровать, не имея духа поглядеть в окно на следствие своего страшного дела «) [1; 258].
И именно то, что Иван Иванович «не имел духа взглянуть» и спасло его, в отличие от Хомы, который не удержался и направил свой взор навстречу Вию.
Множественность явлений Исследуя образную структуру повестей цикла «Миргород», мы не могли не обратить внимания на лексическое ее содержание. Таким образом, можно отметить, что лексема «страх» употребляется:
в значении «очень»:
(«Бульба был упрям страшно») [1;157];
(«Этот сад, по обыкновению, был страшно запущен…») [1;243 ];
(«Его возвратили, высекли страшно и засадили за книгу») [1;255];
(«Иван Иванович успел даже побывать за городом, у косарей и на хуторе, успел расспросить встретившихся мужиков и баб, откуда, куда и почему; уходился страх и пришел отдохнуть») [1;250].
в значении «много»:
(«На стеклах окон звенело страшное множество мух…») [1; 142];
(«…Афанасию Ивановичу и Пульхерии Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве») [1;144];
(«Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, как ни ужасно жрали все во дворе, начиная от ключницы до свиней, которые истребляли страшное множество слив и яблок…»)[1; 144].
Второе значение данной лексемы в некоторой степени отражает понимание гоголевского страха. Ключом к нему является множественность. Страх может быть вызван умножением явлений, нагромождением предметов. Некоторые герои боятся количества нечисти, некоторые — количества разных вещей.
Ярким примером «боязни большинства» может послужить, опять же, «Вий». «Множество» было настроено против Хомы изначально. Когда Спирид и Дорош вели Хому в церковь, они столкнулись с собаками «которых было великое множество и которые от злости грызли их палки» [1;238].
Во все последующие ночи у Хомы был поединок не только с панночкой, но, основываясь на новых наблюдениях, и с множеством нечисти.
(«Вихорь поднялся по церкви, попадали на землю иконы, полетели сверху вниз разбитые стекла окошек. Двери сорвались с петлей, и несметная сила чудовищ влетела в Божью церковь. Страшный шум от крыл и от царапанья когтей наполнил всю церковь») [1; 245];
(«…что-то в виде огромного пузыря, с тысячью протянутых из середины клещей и скорпионных жал») [1; 245];
(«…и послышался шум, как бы от множества летящих крыл <�…> несметная сила громила двери и хотела вломиться») [1; 241].
Именно «несметная сила», огромное множество противопоставлено одному объекту, именно она пытается сломить его как психологически, так и физически. «Когда нечистая сила врывается в церковь, говорится, что влетела «несметная сила чудовищ» — здесь «несметная» как признак неисчислимости превращает дискретное свойство (количество) в непрерывное"[22;14] - рассуждает о данном явлении Заславский.
И мы можем судить здесь о новой ипостаси гоголевского страха — «страх количества». Но герой сам пытается победить тьму в церкви, а следовательно, и потусторонних гостей количеством, «умножением света» («И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, налоям и образам, не жалел их ни мало, и скоро вся церковь наполнилась светом») [1;239].
Аналогично и в «Тарасе Бульбе». Сам Тарас побежден не силой, а количеством вражеских воинов.
Мир как нагромождение предметов, например, представлен в «Старостветских помещиках». Ярко иллюстрирует эту мысль комната Пульхерии Ивановны («…была вся уставлена сундуками, ящиками, ящичками и сундучочками. Множество узелков и мешков с семенами, цветочными, огородными, арбузными, висело по стенам. Множество клубков с разноцветной шерстью, лоскутков старинных платьев…») [1; 141].
Вообще, тема множественности — это следующий шаг, предваряющий дальнейшее развитие категории страха. Есть тексты, где она ярче представлена. Но уже сейчас можно сделать промежуточные выводы, о том, что множественность, например, ведет к разрушению личности, как моральному, так и физическому.
Глава 3."Страх" в «Повестях третьего тома»
Третьим этапом в изучении страха стали «Петербургские повести» или «Повести третьего тома». Это довольно сложный цикл, он сочетает в себе мотивы и образы из предыдущих исследований, но в тоже время трансформирует их, открывая нам совершенно иные стороны изучаемой категории.
Изучая «Петербургские повести» мы пришли к выводу, что страх здесь прослеживается на лексическом уровне значительно чаще и данная лексическая единица используется также для экспрессии речи, что создает особую манеру повествования в «Петербургских повестях». Линия нечистой силы не так ярко выражена на ситуативном уровне, сколько на уровне текстовом. Доказательством тому могут служить чересчур частое упоминание черта в различных ситуациях. Герои своеобразно накликивают на себя беду, употребляя это выражение повсеместно.
«Черт знает что, какая дрянь!"[1; 302]
«Черт его знает, как это сделать! [1; 302]
«Это просто черт знает что!» [1; 310]
«Хорошо, черт побери!» [1; 313]
«Черт побери! гадко на свете!» [1; 317]
«Diabolo, che divina cosa!"(Дьявол, какая божественная вещь!) [1; 390]
И это далеко не весь список ругательств. Примечательно то, что герои чертыхаются не только, когда им плохо, но и в позитивном контексте. Причем иногда черт выступает как реальный объект, к которому апеллируют, а иногда это просто общепринятая форма ругательства.
Но, тем не менее, данные слова имеют свой смысл и результат, ибо употребляются героями в определенных ситуациях, влекущих за собой известные последствия. Темные силы в тексте присутствуют опосредованно. «Их присутствие дает о себе знать то в речи действующих лиц, то в авторских эпитетах, то в повествовательных связках и внутренних мотивировках сюжета» [38;64] - пишет Маркович. Фразы героев с употреблением черта настолько близки обиходной речи, что они кажутся абсолютно органичными. Но, тем не менее, эти реплики как бы сами собой подтверждают чудесную, фантастическую природу происходящего.
Еще раз повторимся и выскажем мысль о том, что участие в сюжете нечистой силы подкреплено у Гоголя не отдельными деталями, а абсурдно-хаотической атмосферой повествования. Мифологические традиции, как известно, предполагают отождествления хаоса с преисподней, а шире — с царством смерти вообще. Вот отсюда, собственно говоря, все это и берет начало.
Снова мы встречаемся со страхом, как средством экспрессии в таких выражениях, как «страшный пьяница», «страх как скучно» и т. д.
Гоголь обыгрывает в «Петербургских повестях» имена и фамилии героев, как бы давая нам явный намек, что весь мир есть страх и ужас.
Автор использует кореньчертв таких фамилиях как Чартков (Чертков в первой редакции) и Чертокуцкий.
По сравнению с «Миргородом», страх несет здесь еще большую сюжетообразующую функцию, на нем основаны все сюжеты, но главное отличие состоит в том, что страх больше не представлен ситуативно и локально, теперь он охватывает текст полностью, и одновременно с этим предстает как элемент стиля (речевые фигуры и т. д). Он не выражен словами слишком отчетливо, но его незримое присутствие от этого становится еще ощутимей в рамках эмоциональной картины мира персонажей. Также «Петербургские повести» отличны и от «Вечеров…» тем, что количество объектов из потустороннего мира сокращено, но сходные комплексы мотивов, сопутствующих страху, конечно же, присутствуют и повторяются. «Петербургские повести» больше уходят в быт, в чем и состоит их связь с «Миргородом». М. Вайскопф отмечает: «Каждой вещи присущ особый символический код, придающий ей суверенное значение в системе гоголевского мироустройства» [9;47]. Маркович в своей монографии утверждает, что «…реальное событийное зерно почти каждой из них (повести) сводится к несложному бытовому происшествию» [38; 9]. Страх становится больше планом содержания, внутренней формой «Петербургских повестей», нежели планом выражения, оболочкой, как раньше.
В каждом тексте со страхом связана история героя, рассказанная им. В «Невском проспекте» Пискарев — «жертва безумной страсти», в «Носе» майор Ковалев испытывает страх от потери жизненно важного органа и от того, что нос успешнее самого героя, в «Портрете» особая история, все повествование — рассказ о страхе героя перед потусторонними силами. «Шинель» — страх власти, общественного мнения, значительного лица, а впоследствии мистическое перевоплощение. «Коляска» — бытовая история, связанная с бахвальством героя и страхом ответственности, «Записки сумасшедшего» говорят сами за себя, герой беззащитен, он занимается саморазрушением, страх быть отвергнутым ведет к сумасшествию. «Рим» — особый текст, который несколько отстоит от темы исследования на предмет страха, но здесь есть сопутствующие мотивы искусства и художника, женской красоты уже неоднократно прослеживающиеся в данном цикле.
«Портрет»
Итак, на основе ранних текстов, мы выяснили, что страх связан с нечистой силой, но это не повод утверждать, что в поздних произведениях концепция меняется кардинально. Здесь тоже довольно четко прослеживается данная тенденция. Обратимся хотя бы к «Портрету». Этот текст можно считать центральным в цикле, на предмет наличия страха. Он сочетает в себе мотивы, обнаруженные нами в «Вечерах…» и «Миргороде». Для начала определим общие моменты.
Перед нами предстает иной герой, не воин и не парубок, а человек тонкий, человек искусства, герой-созидатель и разрушитель одновременно. «Пограничный» герой, назовем его так, ибо в данной повести ставится вопрос, откуда же берется искусство, талант? От Бога или Дьявола? И Чартков, как и художник из 2ой части повести заключают в себе оба начала в большей или меньшей степени («Это был художник. Не правда ли, странное явление? Художник петербургский!» [1; 283]. Но всю его жизнь меняет вещь — портрет, который он приобретает, не зная для чего, на последние деньги («Зачем я его купил? На что он мне?"[1; 317]. С этих пор жизнь художника, если говорить о сюжете, кардинально меняется. Работает стандартная схема: встреча с объектом страха — перемена в жизни, в данном случае, не в лучшую сторону. Полотно становится связующей нитью всех несчастий и происшествий повести. Герои полностью зависимы от него.
Здесь прослеживается мотив оживания мертвого, как в «Вечерах…» и «Вие». «Вообще, страх перед мертвецом, это страх перед тем, что он, может быть, жив <�…> И страшно, что эти силы поднимут его, и он встанет и шагнет, как одержимый…» [32, 7] - утверждает Л. Липавский в своем эссе «Исследование ужаса». А как следствие этого «оживания», связанный с ним мотив зрения, «страшного взгляда» потустороннего объекта.
(«Два страшных глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его…) [1; 319].
(«Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они вырезаны и живого человека и вставлены сюда!») [1;319].
(«Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, что не хотели ни на что другое глядеть.») [1;320].
Мы можем заметить определенное сходство с сюжетом «Вия». Сначала Чартков чувствует себя неловко (как Хома в первую ночь), но, тем не менее, проявляет любопытство, как и все гоголевские герои. Есть закономерность, что чем страшнее ситуация, тем большая активность и интерес возникает.
(«Он принялся его рассматривать и оттирать"[1; 319];
(«Он опять подошел к портрету, с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него» [1;319].
Герой взаимодействует с портретом, («глаз невольно, сам собою, косясь, окидывал его») вступает с ним в бессловесный диалог, который выражается в призыве обратить внимание на глаза. И на третий раз, по традиции, напоминаемой «Вием», герой решается на поступок («Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватить простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего») [1;320]. Своеобразный «магический круг», очерченный Хомой, напоминает нам эта простыня. Но, как и окружность, полотно не спасает героя. Сначала он (портрет) начинает проявлять активность, «подглядывать за героем». И если Вию требовалось поднять веки, то ростовщик обладает даром сверхзрения — «страшные глаза стали просвечивать через холстину» [1;320].
И кульминацией является его оживание, в котором угадывается оживание панночки («…старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам…»). Ассоциация «рама-гроб», то, что ограничивает пространство нечисти, абсолютно прозрачна в данном контексте.
Попутчиком страха, конечно же, является мотив онемения, окаменения («Чартков силился вскрикнуть — и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться — …не движутся члены» [1;320].
Первое, чего «добивается» портрет — потеря ощущения времени героем. Он перестает различать сон и явь («Неужели это был сон?») [1;321]. Кстати сказать, что пробуждается Чартков ото сна своим собственным криком, в отличие от Хомы, разбуженного криком петуха.
Собственно говоря, цели панночки и ростовщика сходны — погубить человеческую душу. Но способы у них разные. И в данном произведении прослеживается еще один известный нам мотив — мотив «дьявольского золота, денег», который мы встречали в «В вечере накануне Ивана Купала» и отчасти в «Заколдованном месте». Подобно Петру, Чартков теряет рассудок и отчасти память при виде золота, что и сыграет определяющую роль в его судьбе («Золото блеснуло. Как не велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото») [1;321]. Ростовщик выполнил свой коварный план, Чартков «одолжил» у него денег («Почти судорожно схватил он его и, полный страха, смотрел, не заметит ли старик»)[1;321].
Столкнувшись с мотивом денег, мы столкнемся и с мотивом сумасшествия («Почти обезумев, сидел он за золотою кучею, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это») [1;324];
(«Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще…») [1; 335];
(«К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия») [1; 335].
Чартков, как и ростовщик, становится обладателем несметных богатств, по сути, они меняются местами. Страх здесь носит трансформирующую функцию, мы наблюдаем взаимопроникновение, некую диффузию качеств одного героя в другого.
Еще одно немаловажное сходство «Портрет» имеет с «Шинелью». Оба, казалось бы, совсем непохожих героя претерпевают сходные метаморфозы. Чартков и Башмачкин перерождаются, однажды испытав страх, они сами становятся носителями этого чувства и разрушают мир вокруг себя. Мы наблюдаем своеобразную эволюцию героя от окруженного хаосом к созидающему хаос, от боящегося к пугающему по причине дьявольского наваждения («В душе его возродилось самое адское намерение…<�…> Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал на куски и топтал ногами…») [1;335].
(«Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушало ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног …») [1;364];
(С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых…") [1; 365];
(«…он заметил человека <�…> и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича…») [1; 365].
Но эти разрушительные и ужасные глаза принесли несчастье ни одному художнику. Три дня писал он ростовщика (снова сюжет «Вия») и «на третий день… ему сделалось страшно» [1;343]. В отличие от Хомы, у него была возможность отказаться, но судьба покарала его иначе, он вытерпел «три случившиеся вслед за тем несчастья, три внезапные смерти — жены, дочери и малолетнего сына.» [1;345].
Соответственно было и три истории, связанных с влиянием самой персоны ростовщика на людей. Одна из них уже проиллюстрирована (о творце самого портрета), другая о юноше, который хотел заниматься меценатством, но под влиянием старика «стал гонителем, преследователем развивающегося и ума и таланта» (как, в свою очередь, и Чартков и сам творец) и погиб от бешенства и безумия, третья — о ревнивом муже, который убил жену, а затем себя.
Наблюдается одна интересная закономерность. Страх в «Портрете» существует не сам по себе и становится не только причиной неудач героев, он порождает еще и зависть — один и смертных грехов. Чартков скупает все лучшие работы и уничтожает их, юноша-меценат тоже становится угнетателем искусства под влиянием зависти. «И жених и невеста были предметом всеобщей зависти», которая в итоге их погубила в истории о ревнивом муже. И сам творец портрета начинает испытывать это греховное чувство по отношению к ученику («Вдруг почувствовал он к нему зависть») [1; 343], («Нет, не дам молокососу восторжествовать!») [1; 343].
Нам даны 2 сценария развития сюжета. Чартков, который подпадает под влияние портрета, уничтожает все вокруг себя и сам погибает от страха и зависти, от жажды золота и сумасшествия. И художник, который проходит подобное испытание, но приходит к божественному осознанию искусства. Он, безусловно, теряет многое на жизненном пути, но все же не позволяет разрушительным дьявольским силам себя убить.
Ростовщик — олицетворение вселенского зла, перед которым бессилен человек («Дьявол, совершенный дьявол!») [1;341]. Он явился яблоком раздора, соединив все времена воедино. Именно демон управляет этим миром, рушит его, пытаясь раздробить, создать хаос и беспорядок. Автор сравнивает и Чарткова с дьяволом, что является ключевой метафорой для всего цикла повестей. Именно дьявольские силы руководят миром и, в отличие от ранних повестей, угроза здесь реальней и серьезней, ибо эти силы не репрезентируются тем, кем должны (имеются в виду объекты загробного мира, черти, духи и т. д), и не выражены явно, а растворены, расконцентрированны в пространстве. Они распространяют свое влияние даже на вещи. Если раньше мы знали, что есть нечисть, есть, например, женщина и ее красота, то следует за ними и страх, то сейчас, объекты страха становятся абсолютно непредсказуемы и предметны: нос, портрет, шинель, коляска. Это стирание границ обусловлено тем, что нет разграничения миров, оно исчезло. Мы не можем отличить фантастику от реальности и принимаем все за чистую монету. Настолько, как видим, сильно взаимопроникновение одной картины мира в другую.
Таким образом, можно заключить, что тема страха, при всей ее видимой завуалированности звучит в данном цикле глубже, поднимаются вопросы бытия и существования мира в целом, а не отдельных его единиц и локусов.
От множественности к хаосу А. Белый говорит о «заболевании страхом» у гоголевских персонажей [3;142]. Это чувство возникает от неясной тревоги, угрозы или неведения, от утери смысла в происходящем. По словам Кривоноса: «Страх вызван у гоголевских персонажей не просто зыбкостью границы между человеком и хаотической стихией…» [29;142]. Силы хаоса стремятся наполнить атмосферу человеческого, реального мира «нечеловеческим содержанием» и тем самым нейтрализовать, разрушить ее. Собственно, поэтому и возникает ужас, который овладевает героями.
Здесь Гоголь еще больше усугубляет ситуацию, он «размножает» мир, дробит его на отдельные частицы. Одни формы причудливо переходят в другие или пребывают в каких-то нелепых, абсурдных сочетаниях друг с другом. И оказывается, что человек в этом мире ничуть не значительнее насекомого, что он вещь среди вещей, хлам среди хлама. Душа овеществляется, а вещь одушевляется. Такие вот происходят печальные и опасные взаимные переходы. Вещный мир Гоголя — это объективация идей, идеальных прообразов бытия. Шинель — это «светлый гость» и «подруга жизни»; бумажки, которыми посыпают голову Акакия Акакиевича сослуживцы, ассоциируются в данном контексте со снегом — символом вселенского холода, отчуждения и одиночества. В силу этого, творцы вещей, как и художники, причастны к устройству мира, к созданию петербургского космоса.
Тенденция множественности ведет нас к идее распада и всеобщего хаоса. «Сильнее эффект возвращения этого мотива в авторских финальных размышлениях о мире и человеке. Теперь уже сам автор от своего лица говорит о хаосе, царящем в мире» [38;31] - утверждает В. Маркович.
Но, тем не менее, «Повести» не лишены фантастического начала, которое органично вплетается в реальность " …в довершении всего, источником хаоса снова оказывается повелевающий миром «демон» — говорит исследователь [38; 32]. И он, безусловно, прав, так как хаос и беспорядок носит в повестях отчасти мистический характер. Хаос, воцаряющийся, по наблюдениям автора, в жизни и сознания людей, осмыслен как признак и предвестие близкого «конца света».
Такой же мысли придерживается и А. А. Фаустов, говоря, что: «Беспорядок природы, следовательно, — то, что определяется промыслом Создателя и служит тем онтологическим условием, которое и позволяет силам зла проникнуть в мир» [56;32].
С первых страниц мы погружаемся в мир Невского проспекта, который претендует на роль «всеобщей коммуникации» Петербурга. Между тем, мы видим нечто обратное: разобщенность, разорванность, раздробленность толпящихся здесь людей. Беспрерывный поток людской массы не может не повергать в страх и панику. Сразу же автор вводит антитезу: толпа — разрозненность. Толпа безлика и страшна, а в одиночку там находиться невозможно «…вы почтительно отойдете к сторонке <�…> сердцем вашим овладеет робость и страх» [1; 281].
«Он уже был на ней, уже взошел в первую залу, испугавшись и попятившись с первым шагом от ужасного многолюдства. Необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство; ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе» [1; 287]
«Пискарев употребил все усилия, чтобы раздвинуть толпу…"[1; 287]
У Гоголя она приводит его в замешательство, и, можно предположить, что замешательство — это ослабленная модификация, своеобразный отголосок мотива окаменения в ранних повестях.
Глаза, нос, талия, бакенбарды, ножки — это составляющие. Человек в «Петербургских повестях» распадается на части, цельной личности уже нет. Части и вещи начинают править миром.
Разрозненность и нагроможденность, творческий беспорядок окружает и Пискарева, и Чарткова. Их мастерские стандартно «забиты» общими для каждого художника вещами. У Пискарева «гипсовые руки и ноги <�…>, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра» разбросаны повсюду в маленькой и тесной мастерской; обиталище Чарткова было аналогично «уставлено всякими художественным хламом: кусками гипсовых рук, рамами, эскизами, <�…> драпировкой [1;317].
В «Носе» мы тоже наблюдаем подобную ситуацию.
«Карет неслось такое множество» [1;304];
«На Невском народу была тьма» [1;304];
" В газетной экспедиции по сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками…" [1;305];
" Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ…" [1;305];
" Любопытных стекалось каждый день множество…"[1;312].
Здесь мы видим, что синонимами множества может являться либо слово «тьма», либо состояние густоты, духоты, которое так же мешает жить герою. Этот дробящийся и распадающийся мир словно рассыпается, и сквозь эти «щели» и проникает зло, дьявольские силы. Потеря цельности является одной из причин этого. Не зря в «Мертвых душах» Гоголь назовет Плюшкина «прорехой на человечестве». Именно он станет апогеем вещности, той дырой, тем бытовым проводником зла в общественное устройство.
Также стоит заметить, что мотив носа, феномен носа проходит через все «Петербургские повести». Его постоянно старается кто-либо ликвидировать, либо нос самоустраняется (как в одноименной повести). Это, возможно, связано с тем, что нос — выдающаяся часть лица человека, и его отсутствие лишает героя возможности претендовать на индивидуальность, делает ее посредственной, массовой, такой же, как множество других.
(«…земля вещество тяжелое и может, насевши, размолоть в муку носы наши…») [1;38];
(«Я не хочу носа! Режь мне нос! Вот мой нос!») [1;294];
(«Где это ты, зверь, отрезал нос?») [1;299];
(«Вот я уже от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся») [1;299];
(«…портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами»)[1;315];
(«…нос, отчеркнутый античной линией…») [1;390].
Идея распада налицо.
В «Портрете» появляется образ «толкучего» рынка, лавочки на Щукином дворе, месте, в котором «…нигде не останавливалось столько народа…», как там. Именно под властью материальных мелочей (и не без вмешательства демона) художник и теряет свой талант. И в этом плане мы наблюдаем своеобразную эволюцию героя от окруженного хаосом к созидающему хаос, от боящегося к пугающему по причине дьявольского наваждения. Свидетельством тому является накопление им золота и уничтожение картин («В душе его возродилось самое адское намерение…<�…> Он начал скупать все лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал на куски и топтал ногами…») [1;335].
Похожую ситуацию можем обнаружить и в «Шинели». Множественности, которая порождала бы страх, мы не наблюдаем, если только не брать в расчет количество чиновников, наносящих оскорбления Акакию. Зато здесь явно прослеживается та инверсия, то перерождение героя в пугающий объект, какое есть и в «Портрете». Сначала Акакий сам боялся, а потом стал наводить ужас сначала на старуху хозяйку, а после смерти и на весь город.
(«Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушало ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног …») [1;364];
(«С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых…») [1;365];
(«…он заметил человека <�…> и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича…») [1;365].
Отметим, что страх в данном контексте обладает качественно новыми, деструктивными функциями. Герой, становясь объектом страха, разрушает мир вокруг себя. В этом выражается и опосредованное присутствие фантастики в тексте. Здесь происходит своеобразный момент обмена страхом: сначала «значительное лицо» пугало Башмачкина, а затем он, достигнув определенного состояния, представляется опасным.
Но есть и еще одна примечательная особенность. Акакий изначально расчленен, разделен на части и поэтому подвержен всем тем событиям, которые с ним произошли. Личности как таковой нет, герой сам, как вещь. И фамилия его Башмачкин, и жаждет он вещи — шинели. И сам он не закреплен в этом мире настолько, что даже голова его болтается, как у китайского болванчика. То есть голову можно отделить от тела. И снова мы имеем в виду идею распада, через которую в мир проникло зло, а конкретно оно проникло из-за смерти и превращения чиновника Башмачкина.
Повесть «Коляска» тоже повесть о вещи, о предмете и о том, что страх к герою приходит именно через этот предмет. А в контексте цикла страх приходит через предмет вообще. Герой прячется, совершает своеобразный уход от действительности («…и в одну минуту отбросил ступени близ стоявшей коляски, вскочил туда, закрыл за собою дверцы, для больше безопасности закрылся фартуком и кожею и притих совершенно, согнувшись в своем халате») [1;373]. Здесь, безусловно, повторение мотива онемения от страха: «притих», значит замолчал, создал полную изолированность и недосягаемость. Множественность здесь уходит в бытовые описания чиновников, образ ярмарки и всевозможные перечисления. Она не представляет опасности, но ее присутствие прослеживается как тенденция на протяжении всего цикла. Таким образом, зло рассеивается в толпе и не идентифицируется.
Апогея своего хаос достигает в «Записках сумасшедшего». Здесь он уже не бытовой, а именно хаос космического масштаба, хаос сознания, хаос мысли. Герой ведет не только внутренние монологи, но и диалоги с самим собой. Имя Аксентий, что значит «растущий», имеет здесь негативную коннотацию. Растет не сам герой, в карьере, любви и прочем, а растет его воображение, растут страхи, множатся болезненные идеи. Он, подобно Чарткову, «изорвал в клочки письма глупой собачонки». Поприщин также привносит в мир распад и хаос. Он, как и Акакий, сам начинает являться объектом страха, вообразив себя испанским правителем («Когда она услышала, что перед нею испанский король, то всплеснула руками и чуть не умерла от страха») [1;384]. Как и Ковалев упоминает нос и задумывается о его функции («Ведь у него же нос не из золота сделан, так же, как и у меня, как и у всякого."[1;383]. И заканчивается его поток сознания тоже упоминанием носа.
Здесь страх предстает во вселенском масштабе, он и в России, и в Испании, и во Франции. Несет глобальный характер, окутывает весь мир.
Женское начало В «Петербургских повестях» в качестве агента инфернальных сил зачастую выступает женское начало. Так В. Кривонос отмечает, что «женская топика в „Петербургских повестях“ внутренне связана с гоголевским мифом Петербурга, воплощающего в своем облике черты блудницы вавилонской» [29; 67] И, как нередко случалось в этом городе и в другие времена, «Прекрасная Дама» обернулась блудницей. Гоголю важно показать читателю, что красота — божественного происхождения, но в современной городской цивилизации «ужасной волею адского духа», жаждущего разрушить гармонию жизни, «красота поставлена в услужение разврату», и женщина превратилась в «двусмысленное существо, присвоив себе ухватки и наглость мужчины». Бедный художник-романтик не выдержал столкновения мечты и действительности, и с помощью опиума он бежит от страшной правды в мир сновидений. При всем своем сочувствии молодому герою, Гоголь показывает его внутреннюю слабость в отношении к трудностям жизни: при первом же столкновении с ними он капитулирует, предпочитает правде самообман, стремится достигнуть благодатных состояний не духовным трудом и борьбой, а легким путем, с помощью наркотиков. Самообман заканчивается самоубийством.
В «Записках сумасшедшего» сам сюжет есть страх. Мотив сумасшествия, проходивший в ранних повестях красной нитью, здесь носит сюжетообразующую функцию. Как и Акакий Акакиевич, Поприщин — вечный титулярный советник. Как и Пискарев, он сходит с ума и гибнет от любви. Он начинает с боготворения генеральской дочки, а кончает открытием, что женщина влюблена в беса.
Сюжет перекликается в «Портретом». Следование за женщиной, а как итог все последующие проблемы, изменения героя. Мотив связи женщины, красоты со страхом исследовался нами еще в «Миргороде». Здесь он усиливается и явно перекликается с «Вечерами.», где связь женщины с чертом не раз была обнаружена («Я теперь только постигнул, что такое женщина. До сих пор никто еще не узнал в кого она влюблена: я первый открыл это. Женщина влюблена в черта. Да, не шутя. Физики пишут глупости, что она то и то, — она любит одного только черта») [1;385].
В «Носе» не все так печально, но, тем не менее, связь с женщиной тоже присутствует. Основной страх Ковалева состоит не в том, что он потерял нос, как жизненно важный орган и не сможет без него жить, а в том, что он не сможет показаться на глаза ни незнакомке («…он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок…<�…> Но вдруг отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его») [1;304], ни Чехтаревой, ни Подточиной («Куда же я с этакой пасквильностью покажусь? Я имею хорошее знакомство; вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах») [1;310].
«Шинель», казалось бы, не дает нам повода рассуждать о женском начале в традиционном понимании. Но это лишь на первый взгляд. Исследователь Эрик Эгеберг полагает, что в самой шинели (которая женского рода) заключена некая сила и власть. Герой, после ее приобретения, начинает замечать прекрасное: встречает «красиво одетых дам», смотрит на картину, где изображена женщина «которая скидала с себя башмак, обнаживши, таким образом, всю ногу, очень недурную…"[ 1; 315]. После празднеств у начальника Акакий повторяет знакомый нам сценарий следования за ускользающей красотой («…подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния прошла мимо…») [1; 316].
Как видим, женское выражено через предмет, обладание которым открывает герою новые горизонты чувственности. Но и в эту тихую и счастливую жизнь вторгается разрушительная демоническая страсть. «Дальнейший ход событий соответствует народной балладе: после одного дня счастья герой лишается своей возлюбленной и умирает. Таким образом, в судьбе Акакия Акакиевича есть что-то ужасающее, вызванное его связью с разрушительной эротической силой…"[60;32] - утверждает Эгеберг. Ужас и сострадание переплетаются в нашем сознании, по отношению к этому герою.
Для обобщения сказанного справедливо снова обратиться к Марковичу, который объясняет причины неудач героев, столкнувшихся с женщиной: «Иррациональное, но совершенно несомненное ассоциативное сближение женщины и города все более уплотняется в тему демонской „прелести“, несущей соблазн и катастрофу» [38;134]. В конечном итоге, образ демона, подчинившего и ослепившего мир, становится художественно неизбежным. Вся логика повествования ведет нас к этому умозаключению.
«Рим» как петербургская повесть Как мы уже выяснили, что повесть «Рим» несколько не вписывается в концепцию цикла: в ней нет страха в традиционном понимании, нет распада и демонического вмешательства. Но мы можем считать ее созвучной «Невскому проспекту» и, следовательно, можем предположить, что она логично завершает цикл, так сказать, закольцовывает его. Здесь снова проявляется тема искусства и присутствует женское начало. Но, в отличие от «Невского проспекта», здесь нет негативных коннотаций, что, собственно говоря, нам и подтверждает Гуковский: «…весь цикл строит образ мира пошлого зла, а отрывок о Риме контрастно вводит очерк мира, покоя, правды, красоты, народности культуры — и величия умирания» [16;238]. Отношение между образной идеей «Рима» и петербургскими повестями — это отношение нормы для человека и отклонения от этой нормы.
Во-первых, стоит поговорить о пространстве города. Петербург и Париж предстают как сходные места, в них суета и быт не дают мечтателю реализоваться, развиться и просто созерцать. Кажется, что не стоит упоминать всем известный факт, что Петербург — это противоестественный, загадочный и мистический город. И сюжет «Невского проспекта» нам это ясно доказывает; он обретает апокалиптический смысл, пройдя сквозь бытовую реальность. В петербургском мире важнее всего казаться, выглядеть, а не существовать и быть. Человек не может оставаться наедине с собой в этом городе, так как начинает накапливаться томительное и грозное напряжение, творится что-то совершенно безотчетное. Череда страшных событий сменяет друг друга, нарастая, как снежный ком. Это город-ложь, город-фальшь, город-мираж («Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него <�…> когда весь город превратится в гром и блеск<�… >когда сам демон зажигает лампы только для того, чтобы показать все не в настоящем виде») [1;298].
Таков и Париж. Князь из «Рима», как и рассказчик «Невского проспекта» поражен им, суетой и хаосом, творящимся в данном городе («И вот он в Париже, бессвязно обнятый его чудовищной наружностью, пораженный движением, блеском улиц, беспорядком крыш, гущиной труб, безархитектурными сплоченными массами домов <�…> бесчисленной смешанной толпой золотых букв.») [1;392].
(«Париж, это вечно волнующееся жерло») [1; 392]. И если бы мы не знали, что автор описывает Париж, то вполне можно представить себе главную улицу Петербурга, настолько сходны их описания и впечатления рассказчиков.
Париж фрагментарен равно как и Петербург. Шляпкам, бакенбардам, тростям северной столицы вторят руки, глаза, «головка в картинном склоне», шейка, висящий волосок, «толпы дам и мужчин». И эти сходства не случайны, город манит, зазывает героя, затягивает в свои сети («Все, казалось, нагло навязывалось и напрашивалось само, без зазыва, как непотребная женщина, ловящая человека ночью на улице) [1; 395]. К теме женщины в обоих произведениях мы вернемся далее, а пока, мы можем предположить, что отрывок «Рим» — это благополучный вариант развития событий «Невского проспекта», перенесенный на другую почву и с другим колоритом.
Но стоит заметить, что при всем сходстве Парижа и Петербурга, им противопоставлен Рим, с его стоическим спокойствием и гармонией. Париж вымотал героя, «домы и улицы Парижа были несносны», его преследовал «призрак пустоты», да и к тому же он давно прожил свое состояние и «жил кое-как в долг». Здесь, безусловно, узнается мотив ростовщичества из «Портрета». В Петербурге с героями происходят сходные ситуации.
А что же Рим? Рим — полная противоположность. («Ему лучше нравилась эта скромная тишина улиц, это особенное выражение римского населения, это призрак восемнадцатого века…») [1;400]. Прекрасны были римские поля, усеянные храмами, водопроводами. В Риме не было скучных толков о фондах, политике, обществе, которые вытесняют из человеческой души истинный образ прекрасного и тягу к искусству. В «вечном городе», в отличие от Парижа и Петербурга, нет суеты и народ там «живой и не торопящийся», «без тягостного выражения на лицах», даже нищета тут «являлась в каком-то светлом виде, беззаботная, незнакомая с терзаньем и слезами».
Что же касается темы женского начала в обоих произведениях, то она здесь является отнюдь не второстепенной, а одной из главных, только трактуется по-разному, что нам и предстоит выяснить.
Женщины Парижа легкие, порхающие, неощутимые существа, которые ускользают от взгляда. Они настолько легки, что кажется, лишены плоти, они как духи, как существа из другого мира («Еще большее впечатление на него произвел особый род женщин — легких, порхающих. Его поразило это улетучивающееся существо с едва вызначавшимися легкими формами, с маленькой ножкой, с тоненьким воздушным станом…») [1;392]. И тут нам сразу вспоминается ускользающая красавица из «Невского проспекта» («…волосы ее были так же прекрасны, глаза ее казались все еще небесными. Она была свежа…») [1;285]. Автор намекает нам на призрачность и обман.
А в Риме женщины совершенно другие, они земные, настоящие, реально существующие («Эти полные взоры, алебастровые плечи, смолистые волосы<�…>везде намеки на серьезную классическую красоту, а не легкую прелесть грациозных женщин») [1;405].
И герои здесь попадают в сходную ситуацию: оба в толпе (что весьма важно) на карнавале и на проспекте встречаются с женщиной и увлеченно следуют за ней. Только в одном случае мечта героя рушится, идеальный образ божественной красоты опорочен развратом, отчасти в этом виноват и город. Возможно, если бы князь встретил Аннунциату в Париже, то ситуация была бы аналогичная, так как обстановка и атмосфера этого города вполне располагает к обману ожиданий и надежд. Но он встречает ее в Риме («Это была красота полная, созданная для того, чтобы всех равно ослепить!»)[1; 406].
И испытывает к ней влечение не мужчины, но художника («Такая женщина могла родиться только в Риме») [1;407];
(«Но красота полная должна быть видима всеми») [1;407].
Здесь мы встречаем мотив ослепления красотой, но в отличие от «Невского проспекта», красота здесь не убивает героя, а вдохновляет его.
Подводя своего рода итог, можно сказать, что в «Риме» страх абсолютно нивелируется до еле уловимых фрагментов. Автор пунктирно намечает линию предполагаемого развития страшного сюжета, будь то намек на множественность и хаос проспектов и площадей, на вопрос о сущности искусства, на ту же связь женщины с инфернальным. Кстати сказать, что сюжет в этом плане «истощен»; при встрече с женским началом не происходит того, что мы привыкли наблюдать в других текстах. Страшное здесь вовсе улетучивается, а остается светлая, ускользающая, но все еще недостижимая мечта о прекрасном. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что женское несет не только разрушительную функцию, влекущую череду страшных событий, но и созидательную, освобождающую героя от этого чувства, дарующую надежду. Страх больше не прячется под маской красоты. Прекрасное в «Риме» первостепенно и самодостаточно, не имеет под собой никаких подоплек, как в предыдущих текстах.
Гоголь не случайно ставит в завершение цикла данный отрывок, идиллический набросок о вечном, о совершенстве, о возможной любви. Он играет на контрасте и убеждает нас в том, что мир еще возможно спасти, даже несмотря на то, что он уже заражен демоном и раздроблен. Спасет его полнота красоты и искусство.
Заключение
В данной работе мы рассматривали категорию страха в творчестве Н. В. Гоголя на примере трех циклов повестей («Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» и «Петербургские повести»). Изучение было комплексным, и точнее назвать страх не категорией, а универсалией.
Универсалии — особые объемные единицы, которые вмещают в себя комплекс определенных мотивов и смыслов. Такой подход позволяет наиболее полно изучить то или иное явление на примере творчества данного автора. Цель работы заключалась в том, чтобы понять механизмы функционирования универсалии страха, выявить некие схемы, закономерности, сопутствующие явления.
Именно с позиции неразрывного единства мы и пытались осмысливать категорию страха в творчестве Гоголя, старались понять, как же происходила эволюция данной категории в выбранном для изучения материале.
На первом этапе изучения страха мы выявили, что данная эмоция четко прослеживается во всех текстах и делит их на определенные группы, в зависимости от полученного результата. Таким образом, мы имеем «позитивную модель переживания страха», «негативную модель переживания страха» и «актуализацию страха в сниженном контексте».
Объектами страха, как правило, являются гости из потустороннего мира, колдуны, ведьмы, черти, мертвецы, неведомые силы и прочее.
Страх является пиковой, перерождающей эмоцией, после которой герои меняются, осмысливают свое существование совершенно по-иному.
Но, коль скоро, речь идет об универсалиях, то, что же общего, сопутствующего страху, нами было обнаружено? В первую очередь, комплекс мотивов. Рука об руку со страхом идут мотивы онемения, потери дара речи, окаменения мотив «вперенного взора» и мотив открытого рта.
Объединив семантику данных понятий, мы можем прийти к выводу, что имеем дело с такой разновидностью страха, как «страх-удивление». Ему свойственно сильное, сиюминутное потрясение, граничащее с испугом. Мгновенное переживание эмоции в первую очередь отражается на внешности героев, как было сказано выше.
Нельзя не обратить внимание на то, что страх у Гоголя тесно соседствует со смехом. «У Гоголя страшное и смешное даны в их одновременности, более того, в их тождественности. Страшное оказывается смешным, а смешное — страшным» — пишет М. Виролайнен в работе «Страх и смех в эстетике Гоголя» [23; 125]. И это действительно так, потому что сцены, где герои якобы боятся, пронизаны комизмом и светлым юмором.
На втором этапе, то есть при изучении цикла «Миргород», универсалия страха начинает приобретать иные черты. Скажем так, она (за исключением некоторых текстов) начинает терять конкретное, демоническое лицо, а обнаруживает себя в совершенно неожиданных контекстах. Страх начинает «прятаться» под различными масками, в чистом виде почти не остается.
Так, например, мы выяснили, что понятия «страх» и «красота» в некоторых ситуациях идут рука об руку. Страшное, по сути, облекается в формы красивого и действует на героя. Красота есть причина страха, она скрывает истинную сущность объекта от человеческих глаз, и тем ужаснее последствия ее воздействия. Красивое вовлекает героя в череду страшных событий, заставляя его активизировать все свои силы.
В тоже время, это понятие подразумевает исключительно женскую красоту. И в данном цикле, в некоторых повестях, герои страдают именно из-за женской «страшной» красоты и сущности " … повести завершаются крушением миропорядка, важнейшим источником которого выступает «женское» в разных ипостасях. Соединение красоты с «чужим» миром ввело непреодолимое противоречие" - [15;270] - говорит С. А. Гончаров. А ликвидация женского приводит к еще более катастрофическим последствиям. Мир начинает терять смысл, превращается в абсурд и стихию власти материи.
Еще одной примечательной чертой миргородского страха становится то, что он «уходит» в текст, в лексические средства. Слово «страшно» все чаще употребляется в значении очень или много.
Также необычной нам показалась еще одна ипостась гоголевского страха, «страх количества». Герой противостоит множеству страхов в одиночку. Эта тенденция зародилась в «Миргороде», а расцвета своего достигнет в «Петербургских повестях».
Они, собственно, и явились третьим этапом нашего исследования. Страх в привычном понимании здесь обнаружить трудно, он рассеян, рассредоточен в мире. «Повести третьего тома» являют собой контаминацию страхов из предыдущих циклов. Нечистая сила снова возвращается и вступает в свои права, а как следствие, сопутствующий ей мотив сумасшествия. Примечательно то, что в повестях, герои, испытавшие страх однажды, не забывают его, а становятся сами носителем этого страха, приобретают демонические черты и разрушают мир вокруг себя, как, например, Башмачкин или Чартков. Объекты страха опредмечиваются: нос, портрет, шинель, коляска. Это стирание границ обусловлено тем, что нет разграничения миров, реального и фантастического, оно исчезло. Лишь в повести «Рим» звучит некая оптимистическая нота, несмотря на то, что герой сталкивается с женским началом, он все же остается жив, что противоречит общей тенденции всей работы.
Таким образом, можно заключить, что тема страха, при всей ее видимой завуалированности звучит в данном цикле глубже, поднимаются вопросы бытия и существования мира в целом, а не отдельных его единиц и локусов.
В заключение следует сказать, что универсалия страха эволюционирует от цикла к циклу, обрастает все новыми смыслами, мотивами и значениями. Изучив все это, мы можем справедливо считать, что страх в разных его ипостасях и проявлениях — основополагающая категория в гоголевской картине мира.
Список литературы
Гоголь. Н. В. Полное собрание сочинений в одном томе / Н. В. Гоголь. — М.: Изд-во Альфа-К нига, 2009. — 1231с.
Аверин. Б. Страх прямого высказывания / Б. Аверин // Семиотика страха (Механизмы культуры). — М, 2005. — С. 172 — 185.
Белый. А. Мастерство Гоголя: Исследование / А. Белый. — Л.: Гос. изд-во художеств. лит-ры, 1934. — XVI, 324 с.
Бицилли. П. М. Трагедия русской культуры: Исследования. Статьи. Рецензии / П. М. Бицилли — Москва.: Русский путь, 2000. — 605 с.
Ботникова. А. Б. Э. Т. А. Гофман и русская литература: (Первая половина XIX в.): К проблеме рус — нем. лит. связей / А. Б. Ботникова. — Воронеж.: Изд-во Воронеж. ун-та, 1977. — 206 с.
Бочаров С. Г. О стиле Гоголя // Типология стилевого развития нового времени: Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле / АН СССР. Ин-т мировой лит. им А. М. Горького. — М.: Наука, 1976. — С. 409−445.
Брейар. Ж. Париж, город страха в «Письмах русского путешественника» Николая Карамзина / Ж. Брейар // Семиотика страха (Механизмы культуры). — М., 2005. — С. 65−81.
Вайскопф. М. Я. Птица тройка и колесница души. Работы 1987;2003 годов / М. Я. Вайскопф. — М.: Новое лит. обозрение, 2003. — 568 с.
Вайскопф. М. Я. Сюжет Гоголя.: Морфология. Идеология. Контекст / М. Я. Вайскопф. — М.: РГГУ, 2002. — 686 с.
Виноградов. В. В. Избранные труды: Поэтика русской литературы / В. В. Виноградов. — М.: Изд-во Наука, 1976. — 511с.
Виролайнен. М. Страх и смех в эстетике Гоголя / М. Виролайнен // Семиотика страха (Механизмы культуры). — М., 2005. — С. 124 — 136.
Гиллельсон. М. И. Гоголь в Петербурге / Гиллельсон. М. И, Мануйлов В. А, Степанов А. Н. — Л.: Лениздат, 1961. — 307 с.
Гольденберг. А. Х. Архетипы в поэтике Н. В. Гоголя: монография / А. Х. Гольденберг. — Волгоград.: Перемена, 2007. — 260 с.
Гольденберг. А. Х. Фольклорные и литературные архетипы в поэтике Н. В. Гоголя. Автореферат диссертации / А .Х. Гольденберг. — Волгоград.: Изд-во Перемена, 2007. — 40 с.
Гончаров. С. А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте / С. А. Гончаров. — СПб .: Изд-во РГПУ, 1997. — 338 с.
Гуковский. Г. А. Реализм Гоголя. / Г. А. Гуковский. М.: Изд-во Художественная литература, 1959. — 529 с.
Даль. В. И. Толковый словарь в 4-ех томах. / В. И. Даль. — М.: Изд-во Русский язык, 1989.
Друбек-Майер. Н. От «Песочного человека» Гофмана к «Вию» Гоголя. К психологии зрения в романтизме / Н. Друбек-Майер // Гоголевский сборник / Под. ред С. А. Гончарова. — СПб: Образование, 1993. — 200 с.
Дуккон. А. Подземная география и хтонические мотивы в ранних повестях Гоголя / А. Дуккон // Studia Slavica Hung. 2008. 53/2. — С. 293 — 304.
Еремина Л. И. О языке художественной прозы Н. В. Гоголя: Искусство повествования / АН СССР. — М.: Наука, 1987. — 177 с.
Зайкина. С. В. Страх. Антология концептов. Волгоград, 2005. Т. 1. 457 с.
Заславский. О. Б. Проблема слова в повести Гоголя «Вий» / О. Б. Заславский // Wiener Slawistischer Almanach. — 1997. — Bd. 39. — С. 5 — 22.
Иванов. В. А. Психология, сновидения, рефлексы / В. А. Иванов // Привлекательность: [сайт]. — URL: http:// www.psy.tom.ru/article.html (дата обращения 23.02.2012)
Калашникова. Е. О страхах / Е. Калашникова // Семиотика страха (Механизмы культуры). — М., 2005. — С. 435−450.
Козюра.E. О. Об одном возможном «прототипе» гоголевского Башмачкина / Е. О. Козюра // Вестник Поморского университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». — 2010. — № 7. — С. 229−234.
Кривонос В. Ш. «Мертвые души» Гоголя и становление новой русской прозы: Проблемы повествования / В. Ш. Кривонос. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1975. — 159 с.
Кривонос. В. Гоголь и Париж / В. Кривонос // Slavic Almanac. — 2012. — Vol. 18. — No. 1. — С. 9−17.
Кривонос. В. Гоголь: в борьбе с хаосом/ В. Кривонос // Slavic Almanac. — 2009. — Vol. 15. — No. 2. — С. 139−148.
Кривонос. В. Ш. Мотивы художественной прозы Гоголя: монография / В. Ш. Кривонос. — СПб.: Изд-во ВГПУ им. А. И. Герцена, 1999. — 251 с.
Кьеркегор. С. Страх и трепет / Пер. с дат. Н. Исаевой, С. Исаева. — М.: ТЕРРА — Книжный клуб; Республика, 1998. — 384 с. — (Библиотека философской мысли).
Левкиевская. Е. Гоголевский «Вий» при свете украинской мифологии / Е. Левкиевская // Studia Mythologica Slavica. 1998. № 1. — С. 307 — 316.
Липавский. Л. Исследование ужаса // Л. Липавский: [ сайт]. — URL: http://anastasiya-shulgina.narod.ru/ID15_5227.htm (дата обращения: 27. 03. 2014)
Лотман. М. О семиотике страха в русской культуре / М. Лотман // Семиотика страха (Механизмы культуры). — М., 2005. — С. 13 — 36.
Лотман. Ю. М. О семиотике понятий «стыд» и «страх» в механизме культуры / Ю. М. Лотман // Лотман. Ю. М Семиосфера / Ю. М. Лотман. — СПб.: Изд-во Искусство, 2001. — С. 664 — 666.
Лотман. Ю. М. Проблема художественного пространства в прозе Гоголя / Ю. М. Лотман //Лотман. Ю. М. Избранные статьи.: в 3 т. / Ю. М. Лотман.- Талин: Александра., 1993. — Т 1. — С. 413 — 447.
Лотман. Ю. М. Из наблюдений над структурными принципами раннего творчества Гоголя // Учен. зап. Тарт. гос. ун-та. — 1970. — Вып. 251. — С. 17—45.
Манн. Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме / Ю. В. Манн. — М.: Coda, 1996. — 474с.
Маркович. В. Петербургские повести Н. В. Гоголя: Монография. / В. Маркович. — Л.: Худож. Лит., 1989. — 208 с.
Мережковский. Д. С. Гоголь и чорт: Исследование / Д. С. Мережковский. — М.: Скорпион, 1906. — 219 с.
Мережковский. Д. С. Гоголь: Творчество, жизнь и религия / Д. С. Мережковский. — СПб.: Пантеон, 1909. — 231 с.
Монтень. М. О страхе / М. Монтень // MICHEL DE MONTAGNE — LES ESSAIS. — Москва.:ГОЛОС, 1992. — URL: www. http://lib.ru/FILOSOF/MONTEN/fear.txt (дата обращения: 30.04.2012).
Монье. А. Страх живого у Гоголя / А. Монье // Семиотика страха (Механизмы культуры). — М., 2005. — С. 136 — 144
Мочульский. К. Духовный путь Гоголя / К. Мочульский. — Paris.: YMCA-PRESS, 1934. — 148 с.
Н.В. Гоголь: Материалы и исследования. Вып. 2. — М.: ИМЛИ РАН, 2009 — 376 с.
Нагина. К. А. Пространственные универсалии и характерологические коллизии в творчестве Л. Н. Толстого / К. А. Нагина. — Воронеж.: Научная книга, 2012. — 442 с.
Попова. О. В. Н. А. Бердяев и Ж.-П. Сартр: два полюса экзистенциальной философии // Информационный портал «Знание. Понимание. Умение»: [сайт]. — URL: http://www.zpu-journal.ru /e-zpu /2010 /1 / Popova / (дата обращения: 16.03. 2014)
Потебня. А. А. О мифическом значении некоторых обрядов и поверий / Потебня.А. А // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских при Московском университете. Повременное издание. — 1865. — Кн.2. — апрель-июнь. — 93 — 95 с.
Русские литературные универсалии (типология, семантика, динамика). Коллективная монография /под ред. А. А. Фаустова. — Воронеж: ИПЦ «Научная книга», 2011. — 596 с.
Сартр. Ж.-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии / Ж.-П. Сартр. — М.: Республика. — 638 с.
Смирнов. И. П. Формирование и трансформирование смысла в ранних текстах Гоголя («Вечера на хуторе близ Диканьки») / И. П. Смирнов // Russian Literature. 1979. Vol. VII. — С. 585−600.
Строев. А. Женобоязнь: образ русской женщины в культуре Просвещения /А. Строев // Семиотика страха (Механизмы культуры). — М, 2005. — С. 81−102.
Токер. Л. Страх и толпа: пересмотр некоторых мотивов лагерной литературы / Л. Токер // Семиотика страха (Механизмы культуры). — М., 2005. — С. 320 — 329.
Труайя. А. Николай Гоголь/ А. Труайя. — М: Эксмо, 2004. — 636 с.
Фаустов. А. А. Авторское поведение Пушкина / А. А. Фаустов. — Воронеж.: Изд-во ВГУ, 2000. — 321 с.
Фаустов. А. А. Творчество Н. В. Гоголя: логика и динамика. Три раздела из специального курса лекций / А. А. Фаустов. — Воронеж.: Изд-во Истоки, 2001. — 48 с.
Фаустов. А. А. Эстетическая теология Гоголя (шесть лекций о повестях «Третьего тома») учеб. Пособие / А. А. Фаустов. — Воронеж: Изд-во Наука-Юнипресс, 2010. — 131 с.
Феномен Гоголя: Материалы юбилейной международной научной конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя / под ред. М. Н. Виролайнен, А. А. Карпова. — СПб: Петрополис, 2011. — 850 с.
Хайдеггер. М. Бытие и время / М. Хайдеггер. — М., 1993. — 460 с
Цивьян. Т. В. Наречение = обречение именем (повесть Гоголя «Шинель») / Т. В. Цивьян // Russian Literature. 2003. Vol. LIV. — С. 85 — 94.
Эгеберг. Э. Филантропическое и эротическое в «Шинели» Гоголя / Э. Эгеберг // Scando-Slavica. — 1988. — Tomus 34. — С. 29 — 40.
Эйхенбаум. Б. Как сделана «Шинель» Гоголя // Эйхенбаум. Б. О прозе: Сб. ст. / Сост. и подгот. текста И. Ямпольского. — Л.: Худож. лит. Ленингр. отд-ние, 1969. — С. 306—326.
Ямпольский. М. Форма страха / М. Ямпольский // Семиотика страха (Механизмы культуры). — М., 2005. — С. 339 — 356.
Besprozvany. V. Смысловое строение повести «Коляска» Н. В. Гоголя / V. Besprozvany // Russian Literature. 2012. Vol. LXXI. № 1. — С. 19- 34.
Clyman. T. W. The Hidden Demons in Gogol''s Overcoat / T. W. Clyman // Russian Literature. 1979. VII. — C. 601−610.
Helle. L. J. Gogol’s carnival: Joyful relativity or Grotesque Nihilism? Some comments on dead souls /L. J. Helle // Scando-Slavica. Tomus 45:1. C. 5−17.
Keyes. W. W. Meditations on Form and Meaning in Gogol’s On Present-Day Architecture / W. W. Keyes // Russian History. 2010. № 37. С. 378−388.
Moyle. N. K. Folktale Patterns in Gogol''s Vij / K. N. Moyle // Russian Literature. 1979. VII. — C. 665−688.
Nilsson. N. A. Gogol’s The Overcoat and the topography of Petersburg / N. A. Nilsson // Scando-Slavica. 1975. Tomus 21:1. C. 5−18.
Ohrid, September 2008. Vol. 2: Literature. Bloomington, IN: Slavica, 86−167.
Romanchuk. R. Back to «Gogol's Retreat from Love»: Mirgorod as a Locus of Gogolian Perversion / R. Romanchuk // David. M. Bethea, ed. American Contributions to the 14th International Congress of Slavists, Ohrid, September 2008. Vol. 2: Literature. Bloomington, IN: Slavica. C. 86−167.
Sawczak.P. Europe as object of aversion and desire cultural antinomies in Gogol’s «Taras Bul’ba» / P. Sawczak // ASEES, Vol. 18, Nos 1−2 (2004): 17−39.
Scollins. K. Как сделан Акакий — Letter as Hero in «The Overcoat» / K. Scollins // Russian Review. April 2012. № 71. С. 187−208.
Shapiro. G. A Few Observations on Gogol’s Characters and Their Vertep Prototype / G. Shapiro // HARVARD UKRAINIAN STUDIES. June 1985. Volume IX. Number 1−2. C. 132−136.
Sobel.R. Gogol''s Vij / R. Sobel // Russian Literature. 1979. VII. — C. 565- 584.
Toth. С. На пути к самоописывающему тексту (сигнальные символы в повести Н. В. Гоголя «Шинель») / С. Тoth // Slavica tergestina. 1995. № 3. С. 73−120.
Woodward. J. B. The Symbolic Logic of Gogol''s The Nose /J. B. Woodward // Russian Literature. 1979. VII. — C. 537−564.
Приложение План-конспект урока по литературе.
Цели:
1.Воспитывать критическое мышление, способности различать реальный и фантастический план.
2. Познакомиться с творчеством Гоголя, изучить категорию страха на примере повести «Вий», ввести понятие градации, оксюморона.
3. Развивать монологическую речь, навыки анализа текста.
Оборудование: раздаточный материал, план-конспект урока, презентация.
1−2мин. 10−15 мин. 15−20 мин. Запись Запись Запись | Оргмомент. Слово учителя. Ц/П: Что нового мы узнали о личности писателя? Как его личность соотносится с его произведениями? Гоголь (1809−1852) родился в местечке Сорочинцы, Полтавской губернии. Происходил из старинного дворянского рода Гоголь — Яновских. Николаем его назвали в честь иконы святого Николая Угодника. Гоголь рос в атмосфере украинского быта с его богатыми традициями, поверьями, преданиями. Это благотворно впоследствии сказалось на его творчестве. Подробнее с его творчеством вы будете знакомиться позже. Но с некоторыми произведениями, я думаю, вы уже знакомы. С какими? Сегодня на уроке нам предстоит углубиться в его творчество. Гоголь, пожалуй, одна из самых загадочных и мистических фигур в русской литературе. Личность Гоголя окружена тайной, с ней связано множество легенд и мистификаций. Он был человеком неординарным и немного странным. Говорят, что он ходил по улицам только с левой стороны и поэтому постоянно натыкался на людей. Также Гоголь был очень застенчивым и скромным человеком, не комфортно себя чувствовал при большом скоплении народа. В женщинах Гоголь видел особую опасность, боялся их. Это отразилась и в его произведениях, где женщина всегда представляет потусторонние силы, из-за женщин происходят все беды, несчастья и трагедии. У Гоголя был еще один страх — страх быть погребенным заживо. В своем завещании он написал: «Не закапывайте тело, пока не обнаружите признаков видимого разложения». Писатель боялся, что он уснет и его похоронят. И по одной из версий, его якобы похоронили, когда он был в состоянии летаргического сна. При реставрации могилы и перезахоронении останков обнаружили, что внутренняя обшивка гроба была порвана. По другим версиям, голова у писателя была повернута вбок. А еще более фантастичное предположение — это то, что черепа вовсе не было, что некий коллекционер Бахрушин завладел им. Что же нового мы узнали о личности писателя? Но все это мистификации и легенды, в которые нам так порой хочется верить. Итак, коль скоро речь зашла о мистике и страхах самого писателя, то вы уже, наверное, догадались, что речь на сегодняшнем уроке пойдет о страхе. Что же такое страх? (эмоция, чувство, защитный механизм) А вам когда-либо приходилось испытывать это чувство? В каких ситуациях? Что вы при этом чувствовали, как вели себя? Некоторые психологи утверждают, что страх — это защитный механизм от воздействия окружающей среды. Но у страха есть оттенки. Давайте подберем синонимы к слову страх и расположим их от самого незначительного по воздействию к самому сильному (испуг, боязнь, ужас) «Словарь живого великорусского языка» В. И. Даля дает обширное толкование данных понятий. Страх — 1) страсть, боязнь, робость сильное опасенье, тревожное состояние души от испуга, от грозящего или воображаемого бедствия («Страх обуяет и растеряешься») ; 2) гроза, угроза или острастка; покорство устрашению, послушание; осознание ответственности («Страх Божий, благочестие как боязнь греха»); 3) страх (нареч.) — ужасно, страшно, весьма, очень; страх сколько много, без числа, несметно, тьма, пропасть, страх как сильно, больно или упорно («Страх, что народу было») [6, 336]. Одной из ипостасей страха является боязнь. Боязнь — страх, опасение, робость [6,122]. Испугать — устрашить, заставить робеть или опасаться чего; нагнать на кого страх; заставить вздрогнуть от внезапности, неожиданности («Испуган зверь далече бежит») [6, 57]. Ужас — самое яркое и тяжелое проявлении страха. Ужас — состояние ужасающегося, внезапный и самый сильный страх, страсть, испуг, внутреннее содрогание, трепет от боязни и отвращения («Ужас объял меня») [6, 476]. И все эти оттенки страха представлены в каждом из произведений Гоголя. Но мы с вами выбрали, пожалуй, одно из самых страшных произведений — «Вий». Исследуя его, мы убедимся, что страх пронизывает произведение не только на уровне эмоции, но и на лексическом уровне. Беседа с классом. Итак, давайте обратимся к тексту. Кто главный герой повести? (Хома Брут) Кто он? (философ) А имя Хома не вызывает у вас никаких ассоциаций? (Фома неверующий, Брут — предатель) Кто его друзья? (богослов Халява и ритор Горобец (Воробей) Их всего трое, обратите внимание на число 3 и запомните, впоследствии оно нам понадобится. Куда и зачем они отправляются? (грубо говоря, на заработки) Как они попадают к старухе? (сказочный мотив потери пути, заблудились и попросились переночевать) Встреча со старухой (описание ее внешности; на чем делает акцент автор; как она себя ведет; как ведет себя Хома; что происходит ночью?) От чего философу страшно? Что необычного происходит с Хомой, когда он испытывает страх? (отражение во внешности: глаза, тело, голос) (отражение в поведении) Встреча с сотником. Какой он? Найдите описание. О чем он прости Хому? Почему именно его? Согласен ли Хома? Что Хома видит в светлице? Кого он узнает в панночке. Найдите описание. Что он испытывает в этот момент? Описание покойной панночки. Что в ней вызывает страх у читателя? (ЕЕ красота. У Гоголя женская красота — это то, из-за чего происходят все беды, она у него страшная красота. Страшная красота — сочетание несочетаемых понятий. Оксюморон. Три ночи отпевания. (как ведет себя Хома в каждую из ночей; события каждой ночи: до отпевания >само отпевание>после отпевания) Чего он боится? Что с ним происходит и как это отражается на нем? Чем он спасается? Сцена попытки побега. Что настораживает читателя? Хома от ночи к ночи испытывает страх все сильнее и сильнее. Как такой прием называется в литературе? (Градация — усиление признака) Какие физиологические признаки страха мы можем наблюдать? Какую роковую (судьбоносную) ошибку герой совершает в конце? Какую роль играет мотив зрения? Как страх проявляется на лексическом уровне? (обороты со словом страх, страшно, черт итд) Гоголь погружает нас в чудесную и мистическую атмосферу, но, тем не менее, у данной повести глубокое философское содержание. Хома наказан, наказан за то, что усомнился в вере, в Боге, поддался на провокацию темных сил. Объяснение дз. Внчт. Прочитать повесть «Страшная месть». Найти там мотивы страха; найти примеры градации и оксюморона. VII. Подведение итогов, выставление оценок. | |