Анализ средств музыкальной выразительности в хоровом концерте Дмитрия Смирнова «Кипарисовый ларец» в аспекте образной содержательности
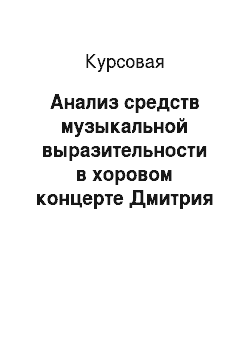
Проследив некоторую трансформацию стиля композитора от сочинений 80х годов («Маленькая кантата» на стихи немецких поэтов XVII века (1981) для смешанного хора; «Полночные стихи» на стихи А. Ахматовой для меццо-сопрано, женского хора и двух фортепиано, «Хоровой триптих» на стихи А. Исаакяна для смешанного хора (1982); «Приявший мир», концерт для чтеца и смешанного хора на стихи А. Блока, «Концерт… Читать ещё >
Анализ средств музыкальной выразительности в хоровом концерте Дмитрия Смирнова «Кипарисовый ларец» в аспекте образной содержательности (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
- Введение
- Глава 1. Иннокентий Анненский
- Глава 2. Дмитрий Смирнов
- Глава 3. Иннокентий Анненский и Дмитрий Смирнов — чистые лирики
- Глава 4. «Кипарисовый ларец» Анненского
- Глава 4.1 «Traeumerei» («Мечтанье»)
- Глава 4.2 «Струя резеды в тёмном вагоне…»
- Глава 4.3 «Призраки»
- Глава 4.4 «Старая усадьба»
- Глава 4.5 «Тоска маятника»
- Глава 4.6 «Кипарисовый ларец» Дмитрия Смирнова
- Заключение
- Библиографический список
Трудно не согласиться с тем, что музыка петербургского композитора Дмитрия Смирнова обладает уникальным свойством захватывать и увлекать исполнителя и слушателя своей тонкостью, страстностью, изысканностью и возвышенностью, достоверностью и необычайной силой эмоционального воздействия. Она вошла в репертуар многих хоровых коллективов.
Однако, следует заметить, что пока творчество Смирнова остаётся «на уровне восприятия», а исследованием тех средств, тех скрытых механизмов, с помощью которых достигается поразительный по своей силе и глубине воздействия эмоционально-художественный эффект, ещё практически не занимались.
Исходя из этого, я посчитала возможным и необходимым провести исследование (оно и является целью данной работы) средств, которые и обусловливают именно такое воздействие и служат высоким художественным задачам музыки Дмитрия Смирнова.
Объектом исследования явился хоровой концерт на стихи Анненского «Кипарисовый ларец» .
При написании данной работы я попыталась использовать метод целостного анализа, включающий в себя и исследование самих средств музыкальной выразительности, и то, как они «откликаются» на художественные задачи автора использованных композитором стихов. К сравнительному («сопоставительному») анализу я прибегла в главе 4.6, посвящённой «взгляду» на концерт Смирнова в целом. Некие параллели (именно в значении «не пересекающихся линий») установлены с концертом на стихи Цветаевой для усиления некоторых эстетико-оценочных характеристик концерта на стихи Анненского. Также я попыталась затронуть некоторые эстетические аспекты творчества Иннокентия Анненского и Дмитрия Смирнова в целом.
В настоящей работе содержатся введение, четыре главы и заключение. Содержанием введения является краткий обзор работы. В первой главе даны некоторые важные, на мой взгляд, сведения об авторах, а также основные «приметы стилей». Во второй главе на основе статьи М. Цветаевой «Поэты с историей и поэты без истории» дано сопоставление сущностных аспектов («чистый лиризм») творчества Анненского и Смирнова — а именно, эти авторы представлены как занимающие особое место — в искусстве поэтическом и музыкальном — на рубеже веков — XIX-XX и XX-XXI. В третьей главе даётся характеристика цикла Анненского «Кипарисовый ларец» — это представляется мне необходимым для более полного проникновения в суть творчества этого поэта и мотивов, пронизывающих весь этот сборник, стихи из которого выбрал Смирнов.
Следует отметить, что непосредственный анализ средств выразительности концерта Смирнова «Кипарисовый ларец» даётся в четвёртой главе — каждому из пяти номеров концерта посвящена отдельная подглава, а в шестой подглаве даётся суммирование исследуемого в предыдущих подглавах (здесь показано, чем стал «Кипарисовый ларец» Анненского в руках Смирнова). Столь «отодвинутое» исследование собственно средств музыкальной выразительности объясняется тем, что понимание их не было бы, на мой взгляд, полным и достоверным без предшествующих ему глав, в которых даны некоторые сведения об авторах и «точки отсчёта» образно-эстетических аспектов творчества Анненского и Смирнова.
В главе 4.1, посвящённой первому номеру концерта «Кипарисовый ларец», внимание акцентируется на строении пьесы «Traeumerei» («Мечтанье»), на том, как особая конструкция, созданная Смирновым, не совпадающая с конструкцией, созданной Анненским, подчёркивает отдельные особо значимые звенья стиха и служит созданию яркого, зримого, можно сказать, осязаемого образа. Также в данной главе выявляется «соотнесённость» трихорда в начальной алеаторической попевке и его сущность «зерна», из которого появляется основной мелодичекий материал у сопрано и альтов, а также его отображение идеи трилистника.
Наряду с вышеизложенным, в главе 4.1 рассматривается наличие «скрепляющего» элемента — нисходящего баса (иногда хроматизированного, иногда нет), который, наряду с преобладающим типом мелодики, создаёт некоторые аллюзии на музыку эпохи И. С. Баха, что, в том числе, «возвышает» и ещё «истончает» образ, данный Анненским.
В главе 4.2, посвящённой второму номеру концерта («Струя резеды в тёмном вагоне»), внимание, так же, как и в первой главе, заострено на особенностях конструкции Смирнова и прочтения им самого стиха. Далее приводятся аргументы в пользу того, что в этом номере создаётся колыбельная, прерывающаяся в неожиданный момент, после чего весь «ход событий» и этого номера, и всего концерта, меняется, и не в лучшую сторону. Также в данной главе рассматриваются интонационные «формулы» (5 основных) как носители определённой идеи, чувства, окрашенные различными оттенками — которые появляются благодаря изменению контекста, «обработке» конкретной «формулы». Строение их вновь подчёркивает идею трилистника. Далее, в главе 4.2 приводится подробный анализ переломного момента номера и всего цикла.
В главе 4.3, посвящённой третьему номеру концерта («Призраки»), указывается на значение его в цикле как перехода от «пластики» к «механике», от образов, связанных с надеждами жизни, к образам, предвосхищающим скорый конец. Подробно рассматривается тональный план как основной выразитель «метаний» героя среди теней и призраков. Также в данной главе, как и в главе 4.2, рассматриваются разновидности «формульных попевок» и их значения. Далее, приводится разбор фактуры, состоящей из трёх достаточно самостоятельных пластов (продолжающих линии развития идеи трилистника), а также особого состава «кластеров» (который образуется не из случайных звуков).
В главе 4.4, посвящённой четвёртому номеру концерта («Старая усадьба»), также, как и в предыдущей главе, рассмотрена трёхпластовая фактура, её «многомерность». Заостряется внимание не возросшей роли «инструментального начала». Указывается на тональную и ритмическую составляющие формирующегося образа-идеи «бесцельного поиска» .
В главе 4.5, посвящённой пятому номеру концерта («Тоска маятника»), внимание акцентируется на господстве метроритмической составляющей и нивелировании мелодической, что, совместно с моделью ostinato, создаёт «оковы» и препятствия свободе мятущейся души, загнанной в тупик. Заостряется внимание на том, что «остинатная» модель пронизывает всю пьесу, являясь «стержнеобразующим» элементом. В данной главе затрагивается и тонально-гармонический аспект пьесы, «кинематографичность» смены тональностей. На основе анализа реализации последней строфы стиха, номера и всего цикла делается вывод об эффекте «временной бесконечности» звукового потока и перенесении звуковой материи из одного измерения в другое.
Глава 1. Иннокентий Анненский
Иннокентий Анненский — фигура особенная в русском символизме (об этом ещё будет сказано далее). Поэт, переводчик, критик, педагог, директор Царскосельской гимназии и других учебных заведений, он был ни с кем не сравним ни в человеческом аспекте, ни в творческом.
Во многом он — трагическая фигура. Вот что пишет про него С. Маковский в своих «Воспоминаниях об Иннокентии Анненском». «Поэт глубоких духовных разладов, мыслитель, осужденный на глухоту современников, — он трагичен, как жертва исторической судьбы. Принадлежа к двум поколениям, к старшему — возрастом и бытовыми навыками, к младшему — духовной изощренностью, Анненский как бы совмещал в себе итоги русской культуры, пропитавшейся в начале двадцатого века тревогой противоречивых дерзаний и неутолимой мечтательности». (4)
Филолог-эллинист по специальности, по профессии педагог (директор Царскосельской гимназии, а затем инспектор Петербургского учебного округа), всезнающий философ, собеседник обворожительный в кругу друзей — наедине с собой он был поэтом, «обрекшим себя пытке богоборческого отрицания и призраку смерти, которую ждал каждую минуту, не веря в потусторонний мир и терзаясь своим неверием» (4). Анненский — явление сложное и в этой сложности многозначительное — «личность, одаренная свыше меры, и писательская совесть, вкусившая от всех отрав европейского „конца века“ и вместе с тем столь русская! Сродни Гоголю, Лермонтову, Тютчеву, Достоевскому в томлении своем по чуду.». (4)
Как отмечает С. Маковский, «он был весь неповторим и пленителен. Таких очарователей ума — не подберу другого определения — я не встречал и, вероятно, уж не встречу. Как мыслитель на редкость общительный, он обладал высшим даром общения: умел говорить и слушать одинаково чутко. Не будучи красноречив в обычном „ораторском“ смысле, он достигал, если можно так сказать, полноречия необычайного. Слово его было непосредственно-остро и, однако заранее обдумано и взвешено: вскрывало не процесс мышления, а образные итоги мысли. Самое неожиданное замечание — да еще облеченное в шутливую форму (вкус „ирониста“, каким он себя упорно называл, удерживал его от серьезничания, хотя бы и по серьезнейшему поводу) — возникало из глубины мироощущения. Мысль его звучала как хорошая музыка: любая тема обращалась в блестящую вариацию изысканным „контрапунктом метафор“ и самым слуховым подбором слов. Вы никогда не знали, задавая вопрос, что он скажет, но знали наперед, что сказанное будет ново и ценно, отметит грань, от других скрытую, и в то же время отразит загадочную сущность его, Анненского» (4).
Современники отмечали в Аннненском необычайную внимательность, романтическую галантность и предупредительность «мечтателя, тонко чувствующего ту эстетику вежливости, что ограждает души благороднорожденные от вульгарного запанибратства». (4) Он был, словно «вычитанный из переводного романа маркиз». (4)
По воспоминаниям опять же Маковского, «красиво подавал он руку, вскакивал с места при появлении в комнате дамы, никогда не перебивал собеседника, не горячился в самом горячем споре, уступая слабейшему противнику с обезоруживающим благодушием» (4).
Анненский, судя по письмам его, жадно искал раскрытия своего внутреннего мира, но не мог этого сделать в повседневном общении. Зато в творчестве своём он изливал себя без остатка — со всеми противоречиями, противоборствами внутреннего мира, любовью к миру и всё же невозможностью соединения с ним… Очень часто в его стихохотворениях мы не можем уловить — а кто же — действующее лицо? Однако, если мы присмотримся повнимательнее, окажется, что часто — это он сам, но в каких-то невероятных трансформациях и обстановке.
Анненский писал в своей «Автобиографии»: «В университете — как отрезало со стихами. Я влюбился в филологию и ничего не писал, кроме диссертаций. Потом я стал учителем…» (2, c.417). В печати он появился сначала как автор статей и рецензий на филологические и педагогические темы в научных журналах, затем как переводчик (трагедий Еврипида). Лишь в 1904 вышел в свет первый сборник стихов Анненского — «Тихие песни» (причём, под псевдонимом Ник. Т-о). Последние три года жизни поэта (1906;1909) были насыщены литературной деятельностью и подготовкой к выходу сборника «Кипарисовый ларец», которому, однако, суждено было увидеть свет лишь после смерти автора.
В период с 1906 по 1909 годы расширился круг знакомых Анненского в литературной среде — он познакомился с Вяч. Ивановым, Блоком, Сологубом, Кузминым, Волошиным, принимал участие в создании журнала «Аполлон». Но это всё равно не помогло пониманию его самого и его творчества. Лишь после его смерти многие, в том числе Блок, признали, что «проглядели его» .
Глава 2. Дмитрий Смирнов
Фигура петербургского музыканта Дмитрия Смирнова уникальна. Выпускник сначала Хорового училища имени М. Глинки, затем Ленинградской Консерватории по классам дирижёрско — хорового и дирижёрско-симфонического дирижирования, зарекомендовавший себя как талантливый исполнитель-дирижёр, педагог, начал писать музыку, не имея композиторского образования, а «умению строить форму, развивать материал учился на партитурах великих» (6). Смирнов самостоятельно изучил всего Прокофьева, Шостаковича, Бартока, Хиндемита, Стравинского, Берио, Лютославского.
В течение 15 лет Смирнов руководил Женским хором Музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова, что, безусловно, способствовало доскональному изучению возможностей этого инструмента (одно из первых «больших сочинений» Дмитрия Валентиновича — кантата на стихи А. Ахматовой «Полночные стихи» для меццо-сопрано, женского хора и двух фортепиано — 1982 год; концерт для женского хора a cappella на стихи П. Яворова в переводе Л. Озерова «Благовещение «- 1983 год).
С годами всё больше открывал для себя Смирнов творчество Свиридова и Гаврилина. По признанию композитора, «„Перезвоны“ дошли до ума не сразу, хотя после надолго остались любимым произведением, настольной книгой хорового письма» (6). Многое было «впитано» ещё в годы учения в Хоровом училище и Консерватории, однако дальнейшее изучение музыки разных эпох — от европейского Возрождения до русского партесного концерта — несомненно помогало накапливать тот опыт, который так важен для композитора, избравшего своим основным направлением именно музыку хоровую. Есть у Смирнова и музыка к драматическим спектаклям, и к фильмам, и оперы — «Йерма» (по Ф.Г. Лорке) и «Девочка со спичками» (по Х.К. Андерсену) — в соавторстве с С. Баневичем, и композиция для органа «Applicatio», и соната для кларнета и фортепиано, но это было, скорее, в качестве «пробы пера» в разных жанрах, потому что предпочтение отдано было именно хору — в разных видах — это и женский хор без сопровождения, и в сопровождении — двух роялей, как в «Полночных стихах», например; и смешанный хор — без сопровождения и опять же с двумя фортепиано — «Сюита на стихи шотландских и английских поэтов»; и, что особенно интересно — в самом близком к нынешнему моменту времени этапу творчества — «эксперименты» (и, надо сказать, весьма удачные) с составами исполнителей, тяготение к ещё более многомерному освоению пространства засчёт добавления к хору a cappella солирующих инструментов и голосов. Так произошло при создании Хоровых фресок на тексты духовных стихов «Скорбящие радости Богородицы» — для женского голоса, саксофона-сопрано и смешанного хора — и хорового концерта «Набоковские песни» — изначально написанного для контр-тенора и исполненного в таком виде, а затем «адаптированного» для меццо-сопрано (и тоже исполненного), струнного альта и смешанного хора. В обоих случаях солирующий инструмент как бы «договаривает» то, что уже не в состоянии выразить хор и солисты, а также «раздвигает рамки» привычного пространства хор-солирующий голос, добавляя ещё один ингредиент в темброво-колоритную и смысловую палитру.
Дмитрий Смирнов создал свой уникальный, ни на кого не похожий, хоровой язык, основанный на глубинных пластах русской хоровой музыки (мы можем видеть это в антифонности его концертов на стихи Некрасова, Блока, Молитвословиях, наличию эффекта реверберативности в этих сочинениях, даже использование двух фортепиано — своего рода антифон (хоть с точки зрения «инструментария» и не относящийся к древнему русскому искусству)); в использовании достижений строчного многоголосия — в Хоровых фресках «Скорбящие радости Богородицы»), на блестящем владении приёмами хорового изложения и внесении новых элементов, а также на новой трактовке возможностей хора как ансамбля поющих (касательно подвижности голосов, диапазона) и как вокального оркестра. В его музыке мы можем услышать и «музыкальную дымку, рождаемую сплетениями мотивов» (здесь и далее в абзаце цит. ист.6), и «звуковое марево» — причём, это могут быть и яркие краски, и акварель, и «выразительность мелкого штриха» (что, кстати, особенно характерно для концерта на стихи Анненского), и работа «крупными мазками» (например, концерт на стихи Мандельштама), и тонко «детализированные фоны», и «многоярусность», и «задушевность, сентиментальность интонаций» (хорошо видно на примере второго номера анализируемого в работе концерта). В каждом концерте Смирнова есть свой стилевой акцент, преобладают те или иные особенности письма. «Сюиту на стихи шотландских и английских поэтов» или «Маленькую кантату на стихи немецких поэтов XVII века» мы не спутаем с концертом на стихи Некрасова или Цветаевой. На мой взгляд, главное в индивидуальной технике Смирнова — это именно тот синтез разных «слоёв», стилей, элементов «с преобладанием тех или иных особенностей» (как уже было сказано выше), который (синтез) всегда подчиняется высокой художественной задаче и с блеском её реализует.
Сам Смирнов однажды так прокомментировал особенности своего стиля: «Мои сочинения исполняются по партитуре, и каждому исполнителю должно быть слышно и понятно всё, что происходит, каждый осознаёт свою роль в общем звучании, как в оркестре. Нет строгого деления на партии, структура многолинейна, и каждая линия достаточно свободна ритмически. Это происходит от желания придать фактуре ощущение живой субстанции, добиться „дышащей горизонтали“. То, что в храме возникает в результате взаимодействия с акустической средой, я пытался, вначале неосознанно, воссоздать». Что ж, этот комментарий звучит достаточно убедительно, и автор работы по исследованию «Кипарисового ларца» полностью соглашается с вышесказанным.
анненский смирнов кипарисовый ларец
Глава 3. Иннокентий Анненский и Дмитрий Смирнов — чистые лирики
В русском символизме творчество поэта Иннокентия Анненского занимает особое место. Явив миру свой собственный поэтический мир, «не изобретённый и не сконструированный» (2, стр.11), «не запятнанный жеманством, кокетством, претенциозностью» (2, стр.11), а также «сладострастием исканий» (2, стр.11), он не был по достоинству оценён современниками, а, по словам Ахматовой, которая его считала Учителем (не только своим) и посвятила ему стихотворение с таким названием, «…дело Анненского ожило со страшной силой в следующем поколении… он нёс в себе столько нового, что все новаторы оказались ему сродни» (2, стр.11).
Знамениями эпохи были призрачность реального и реальность призрачного. Всё русское искусство рубежа XIX—XX вв.еков пронизано этими «метафизическими сквозняками» (2, стр.11). В этих условиях Анненскому удалось явить и сохранить свою «самость», однако, её было дано понять и оценить не сразу. Символизм Анненского очень своеобразен, может, поэтому сами символисты «проглядели великого поэта» (2, стр.11). То новое, что сказал Анненский, существовало у него лишь «в смысле разновидности „вечного“» (2, стр.11). То есть, это было несколько другое новое, не стремившееся сказать своё последнее слово.
Не случайно, говоря о творчестве Анненского, я не использую выражений вроде «поэтический талант… развился», а использую термин «явил». Верное слово относительно «творческой единицы» Анненского подсказала Марина Цветаева в своей работе «Поэты с историей и поэты без истории». Согласно этой классификации, есть среди поэтов те, что постоянно развиваются, а есть те, что просто сразу «являют». Их Цветаева относит к «чистым лирикам». К последним, по мнению Цветаевой, относятся из русских поэтов, прежде всего, Пастернак, Мандельштам и Ахматова, Лермонтов (из зарубежных — Гейне, Байрон, Шелли, Верлен). Для ясности приведу наиболее характерные особенности тех, кто «с историей» (здесь и далее в этом абзаце цит. ист.7), и тех, кто «без» нее. Итак, поэты «с историей» — «с развитием»; геометрически — «стрела, пущенная в бесконечность»; «пешеходы»; они «влекомы поступательным законом самооткрывания»; для них всё — «пробный камень их силы, растущей с каждым новым препятствием»; «поэты темы»; «поэты цели»; «поэты воли»; обладают «непогрешимым инстинктом главного» и «решимостью расстаться с сегодняшним самим собой ради достижения поставленной цели»; им «тесно в своём „я“», «их „я“ всемерно» (Пушкин); для них «нет посторонних тем», они «сознательные участники мира». Поэты «без истории» — «без развития» (то есть, им ни к чему развиваться, они сразу являют миру себя); геометрически — «круг»; не «пешеходы», а «столпники»; у них нет четкой цели; нет «волевого замысла» — есть «претворение состояния», «чистого переживания — перестрадания»; у них «нет темы и обязательных часов работы за столом»; во время «отлива вдохновения» их поглощает «безмерное опустошение». Запись «чистого переживания», «перестрадания», «наших снов и ощущений» — это и есть, по Цветаевой, отличительные особенности чистой лирики. И, чем лирик больше, «тем запись чище». Чистые лирики «уже всё знают отродясь». Они «не спрашивают» — «являют». Они пришли в мир «сказать» и «дать о себе знать», а не «узнавать» (в отличие от тех, что «с историей», но — ни в коем случае не умаляя их величия); обладают «безошибочным инстинктом чужого» и «пронзительным ощущением судьбы, то есть себя». Часто лирик замкнут в своём мире, «обречён сам на себя» .
Мне близка такая классификация (причём, её можно применять не только к поэтам, о чём будет сказано далее).
Что касается Анненского, е я бы тоже отнесла к категории «поэтов без истории» .
Конечно, в разрезе данной работы, поэт интересен именно своими лирическими произведениями, хотя это был не единственный жанр, в котором он работал. Анненский — автор трагедий на античные сюжеты (например, «Фамира-кифарэд»), переводчик творений Еврипида, стихотворений Горация, Гёте, Гейне, Лонгфелло, Леконта де Лиля, Бодлера, Верлена, Малларме, Рембо, своего любимого Кро. Он также был автором многих критических работ (интересны две «Книги отражений» — в первой содержатся статьи о Гоголе, Достоевском, Тургеневе, Горьком, Толстом, Писемском, Чехове, Бальмонте; во второй — о Лермонтове, вновь о Тургеневе, Достоевском и Гейне, о Леониде Андрееве, об Ибсене, о Шекспире) и педагогических трудов.
В своей статье «О современном лиризме» Анненский интересно говорит о символизме (то, что именно говорит, помогает раскрыть и его «особое положение» в самом этом явлении). Итак, «символизм — дитя города… он культивируется… заполняя творчество по мере того, как сама жизнь становится всё искусственнее и даже фиктивнее» (2, с.11). Уже в этом высказывании Анненского видно, насколько он смотрел в будущее, а, может, вернее многих других видел всё то, что уже происходило в тот период. Мы и сейчас говорим, что современная жизнь, особенно в городах, а, тем более, в мегаполисах, уничтожает, обесценивает многое по-настоящему дорогое для человека, но мы-то живем уже в XXI веке, а Анненский говорит о том же в самом начале XX. Анненский считает, что «символы родятся там, где еще нет мифов, но уже нет веры» .
Не секрет, что многие символисты тяготели к музыкальному искусству. В этом смысле Анненский не был исключением, причём, это касалось не только его творчества, но и даже манеры говорить. По воспоминаниям уже цитированного выше С. Маковского, «мысль его звучала как хорошая музыка: любая тема обращалась в блестящую вариацию изысканным „контрапунктом метафор“ и самым слуховым подбором слов». В его творчестве (лирическом и критическом) любовь к музыкальному искусству выразилась наличием лейтмотивов (взять хоть лейтмотив тоски), обертонов и модуляций, смыслового многоголосия. Автор «Кипарисового ларца», как и многие деятели русской культуры начала двадцатого века, испытывал огромный интерес к творчеству немецкого композитора Рихарда Вагнера (который был родоначальником системы лейтмотивов в музыке). Сам же Анненский по поводу творчества Вагнера писал: «То, что до сих пор я знаю вагнеровского, мне кажется более сродным моей душе…» .
При всём этом, «музыкально-мистическая стихия», которая у символистов главенствовала, для Анненского второстепенна. В одном из писем говорит, что «за последнее время… много этих, которые нянчатся со словом… но они не понимают, что самое страшное и властное слово — будничное» (курсив Анн.). Тут же можно вспомнить «будничные» слова в «Старой усадьбе», например, «всё осины тощи, страх!», «накренилось, а стоит», «чьё жилище? Пепелище? Угол чей?», «ну как встанет, ну как глянет из окна…», и смешанные с разговорным языком «Ишь затейник! Ишь забавник! Что за прыть!», «Так иди уж…» и т. д.; в «Тоске маятника» — «ветер пробует крючок», «где-то тяжко по соломе переступит, звякнув, конь…», «обиженно, сердито кто-то мне не даст уснуть», «ходит-машет сумасшедший», «вдруг отскочит», «зашипит и захохочет, залопочет…» и т. д. Помимо очень направленного и часто довольно жесткого применения «будничного слова», Анненскиий шёл по пути «лирического преображения романного пространства» (2, с.10) (это видно на примере «Старой усадьбы» и «Тоски маятника»), он стремился «взять у социально-психологического романа… всё, что годится для лирики» (2, с.10), «в пределах сверхограниченного стихового постранства… сохранить текучесть романного времени» (2, c.10). Таким образом, Анненский стремится «воссоздать мир чувств и переживаний… и социального поведения человека не в длительности… тщательного психологического анализа, а в момент „смысловой вспышки“, „кризисности“» (2, с.10). Всё это он делает за счёт очень точного отбора деталей, жестов, примет. Здесь будет не лишним указать также на то, что Смирнов в своём творчестве тоже создаёт всем обилием собственных и по-своему трактованных привычных средств выразительности (обилие «кластеров», которые автор, кстати, обычно называет «гроздьями», в которых, как правило, все звуки — это «зависшие» мелодические или гармонические ноты, а иногда — составляющие сонористического эффекта, что будет подробнее рассматриваться далее) зачастую такие состояния, которые нельзя назвать «простыми», «обыденными», это всегда некий максимум — причём, это касается всего спектра человеческих эмоций, чувств, ощущений — это может быть и эйфорическое восхищение (что, например, есть в первом номере концерта на стихи Некрасова), соединённое с глубинным пониманием красоты и порядка устройства мира (достигнутое антифонностью (см. пример 1), от чего композитор, совершенно отходит в сочинениях 00х годов, стройностью аккордовой фактуры, парящей мелодией у сопрано в предпоследней фразе номера (см. пример 2)), и несдерживаемый ужас видения страшного Ангела в одноименном номере в концерте на стихи Набокова (достигнутого и остинатностью ритма и тональности, и звукоподражательностью взмахов крыльев у альтов с самого начала и у басов далее (см. примеры 3,4), и очень подвижными мелодическими линиями, в особенности, басовой партии, и почти предельным по высоте высказыванием сопрано (см. примеры 4,5), и несколько рассеянного и печально-примирённого воспоминания, соединённого с теплым стремлением к тому, что, однако, уже не сможет осуществиться («Когда-то долгие печали…» (см. пример 6) в концерте на стихи Блока «Приявший мир»), достигнутые и упоминавшимся уже антифоном, правда, несколько другого рода, нежели в концерте на стихи Некрасова, и параллельным движением одного пласта фактуры на педали другого, и мягкими отголосками «вторы» и т. д.
Уже приведя небольшое количество примеров из сочинений Смирнова в ракурсе создаваемых композитором образов, хотелось бы высказать свою точку зрения, опираясь на данную Цветаевой классификацию. На мой взгляд, не только поэтов, но и вообще всех художников можно условно, конечно, разделить, на таковых «с историей» и «без истории». Опираясь на приведённые ранее основные характеристики, я бы сказала, что Смирнов — тоже чистый лирик, он «воссоздает мир чувств и переживаний человека», причем, как правило, именно переживаний в момент «смысловой вспышки». Причем, это касается не только Смирнова-композитора, но и Смирнова-дирижера, и Смирнова-педагога и самой личности этого удивительно тонко чувствующего мастера. Дмитрий Валентинович всегда создает яркие образы, добиваясь этого не только на концертной эстраде, но и при работе со студентами в классе дирижирования, и при работе с учебными хоровыми коллективами (такими, как Женский и Смешанный хоры Санкт-Петербургского музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова, Хор студентов Санкт-Петербургской Консерватории), и, конечно, при подготовке программ Камерным хором Lege Artis под управлением Бориса Абальяна, который можно назвать своего рода «творческой лабораторией», особенно в годы создания и подготовки к исполнению таких непростых сочинений, как «Litaniae Lauretanae» для контр-тенора соло и смешанного хора, «Скорбящие радости Богородицы. Духовные стихи» (Хоровые фрески для женского голоса, саксофона-сопрано и смешанного хора), «Набоковские песни» (изначально для контр-тенора, а затем в адаптированном виде для меццо-сопрано соло, струнного альта и смешанного хора). На мой взгляд, сотрудничество именно с этим хоровым коллективом и его руководителем дало благоприятную почву для создания многих хоровых сочинений Смирнова.
Роль творчества Дмитрия Смирнова примерно с последних двух десятилетий XX века по сегодняшний день уникальна. По сути, так же уникальна, как и роль Иннокентия Анненского на рубеже XIX—XX вв.еков. Почти полностью сконцентрировавшись на музыке для хора, который, в общем-то, традиционно является инструментом в большей степени «обобщающим», нежели «индивидуализирующим», Смирнов достигает своим собственным путём (чистого лирика), своей индивидуальной техникой претворения очень сильных по накалу эмоциональных состояний (цитируя Цветаеву, «чувство начинается с максимума, а у великих людей и поэтов на максимуме остаётся» (здесь и далее в абзаце цит. ист.7)) и очень индивидуализированного прочтения. Смирнов завораживает и увлекает собственным мировоззрением, а, скорее даже, явлением собственного мира нам, исполнителям и слушателям. А явление своего мира, «знание только его», «пронзительное ощущение судьбы, то есть себя» являются отличительными особенностями чистых лириков. Мы каждый раз погружаемся в то состояние, которое преподносит Смирнов, мы «переживаем», «перестрадаем» вместе с ним. В век высоких технологий, которые проникают во все виды искусства, в том числе, в музыку (никто не говорит, что это плохо, главное, чтобы не было подмены истинных ценностей фальшивкой), дефицитом является живое человеческое чувство, какой-то душевный порыв, непосредственность впечатлений и глубина переживаний — и всё это нам даёт щедрая, полнозвучная, тонкая и пластичная, возвышенная и страстная музыка Дмитрия Смирнова.
Проследив некоторую трансформацию стиля композитора от сочинений 80х годов («Маленькая кантата» на стихи немецких поэтов XVII века (1981) для смешанного хора; «Полночные стихи» на стихи А. Ахматовой для меццо-сопрано, женского хора и двух фортепиано, «Хоровой триптих» на стихи А. Исаакяна для смешанного хора (1982); «Приявший мир», концерт для чтеца и смешанного хора на стихи А. Блока, «Концерт на стихи Н. Некрасова» для смешанного хора, «Благовещение» на стихи П. Яворова в переводе Л. Озерова для женского хора (1983); «Круговорот», концерт на стихи латиноамериканских поэтов (1984); «Бессонница» на стихи М. Цветаевой (1986); «Сюита на стихи шотландских и английских поэтов» для тенора, смешанного хора и двух фортепиано (1987); «Музыкальное приношение памяти И.Ф. Стравинского», Missa brevis для смешанного хора, органа и инструментального ансамбля (1988)) к сочинениям 90х («Молитвословия из Литургии Святого Иоанна Златоуста» для смешанного хора (1992); «Рождение крыла» на стихи Ю. Мориц, А. Тарковского и Б. Пастернака для смешанного хора (вторая редакция завершена в 1997); «Тебе поем» на православные канонические тексты для женского хора (1998)) и тем более 00х («Скорбящие радости Богородицы. Духовные стихи», хоровые фрески для женского голоса, саксофона-сопрано и смешанного хора, «Litaniae Lauretanae» для контр-тенора и смешанного хора на латинские канонические тексты (2001)); «Набоковские песни» концерт для контр-тенора (меццо-сопрано), струнного альта и смешанного хора (2007)), я считаю необходимым обозначить сочинения «Я рождён в девяносто четвёртом, я рождён в девяносто втором…» на стихи О. Мандельштама для смешанного хора (1988;1989) и «Кипарисовый ларец» на стихи И. Анненского для смешанного хора (1989;1990) своего рода «переходным этапом» в образно-смысловой сфере и, как следствие, в дальнейшем формировании композиторского языка Смирнова. Так, на мой взгляд, усиливается значение трагических образов и предчувствий, связанных с восприятием своей эпохи и себя в ней (особенно первый и последний номера цикла на стихи Мандельштама), и связанных с восприятием своего внутреннего мира вне связи с конкретным историческим временем (концерт на стихи Анненского). Любопытно, насколько разнятся эти два концерта. Так, в мандельштамовском Смирнов пользуется больше «широкими мазками», многие мелодические линии охватывают широкие регистрово-тесситурные пространства именно с большим «разлётом», «размахом крыльев» (см. пример 7), тогда как «Кипарисовый ларец», наоборот, выполнен в филигранной, ювелирной технике — «прорисованы» мелкие детали, палитра богата очень тонкими цветовыми градациями, фактурными контрастами и особой «зыбкостью» и хрупкостью, что будет непосредственно рассмотрено в главе 4 при анализе собственно средств музыкальной выразительности.
Глава 4. «Кипарисовый ларец» Анненского
Это вторая книга стихов (первой была книга «Тихие песни»), вышедшая посмертно (в 1919 году), подготовкой рукописи занимался сын поэта. Название связано с домашней шкатулкой, где хранились рукописи. Однако, не может не звучать и символическое значение: в русской традиции кипарис понимался как дерево скорби, а «согласно античной легенде в этом дереве была заключена душа юноши Кипариса, любимца Аполлона» (3). Возможно, в названии скрыта ещё одна тайна поэта — он хотел вызвать ассоциацию со смыслом книги своего любимого французского поэта Шарля Кро «Сандаловый ларец» .
Сложно установить степень авторской воли касательно композиции этого сборника. Копия плана книги, составленного самим Анненским, была обнаружена в архивах (в письме О.П. Хмара-Барщевской к В. Кривичу). Этот вариант был использован далее в издании 1987 года «Иннокентий Анненский. Избранное». «Однако, из-за отсутствия оригинала плана или прямых указаний поэта сложно считать результаты тщательных исследований специалистов бесспорными» (2, с.391). В дальнейшем мы будем рассматривать композицию, следуя за первоизданием.
Композиционно «Кипарисовый ларец» состоит из трёх разделов: «Трилистники» — по три стихотворения в каждом (три листка), «Складни» — по несколько стихотворений и «Размётанные листы». Каждый из циклов связан внутри темой или мотивом, а все вместе циклы отражают единое миросозерцание автора.
Каждый трилистник имеет название, служащее как бы ключом к содержанию стихов цикла («Трилистник обречённости», трилистник лунный, призрачный, трилистник толпы, одиночества и так далее). «Заглавие является важнейшим элементом поэтики Анненского: оно, как правило, многозначно и имеет завуалированный смысл». (3) Стоит отметить и символику числа 3 — это символ множественности, творческой силы, созидания, обновления, роста, движения вперед, преодоления двойственности, синтез, число «неба и души» .
Любопытны воспоминания М. Волошина о том, как Анненский читал свои стихи: «Иннокентий Фёдорович достал большие листы бумаги, на которых были написаны стихи. Затем он торжественно, очень чопорно поднялся с места (стихи он всегда читал стоя). Окончив стихотворение, Иннокентий Фёдорович всякий раз выпускал листы из рук на воздух (не ронял, а именно выпускал), и они падали на пол у его ног. «(Памятники культуры. Л., 1983. С. 70).
Построение сборника как единой книги, архитектоника которой целиком подчиняется идейно-содержательному замыслу автора (название, эпиграфы, циклы, последовательность их расположения), было принципиальным для творчества русских символистов. Но даже на этом фоне композиция «Кипарисового ларца», по мнению некоторых историков русской поэзии, «упорство, с которым проведена циклизация, — явление в высшей степени своеобразное, пожалуй, уникальное в русской поэзии» (2, c.392). Это позволило Анненскому создать напряженную смысловую полифонию (при очень не простых зачастую для понимания стихотворениях или многих отдельных оборотов): контрасты, соответствия, сплетения тем и отдельных стихотворений в малых циклах (трилистник, складень), отдельных «трилистников», «складней» и стихотворений в единстве разделов («Трилистники», «Складни», «Размётанные листы»). Эти разделы также взаимодействуют в единстве всего сборника. Нас, безусловно, в большей степени интересуют именно «Трилистники», но знание стремления Анненского к обобщению и подчинению единому замыслу всех частей не является лишним.
Герой Анненского чаще всего — противоречивая личность, борющаяся с собой, своими мыслями, чувствами, воспоминаниями и страхами, грезящая чем-то недостижимым и одновременно отрицающая эти грёзы. Часто героем в своих стихотворениях выступает он сам.
Глава 4.1 «Traeumerei» («Мечтанье»)
У Анненского стихотворение «Traeumerei» — часть «Трилистника лунного» (еще 2 стихотворения микроцикла — «Зимнее небо» и «Лунная ночь в исходе зимы»).
В письмах Анненского есть некоторая информация, которая может пролить свет на содержание стихотворения «Traeumerei», скорее всего, «навеянное» отношениями с Е. М. Мухиной, знакомство с которой произошло, по-видимому, в то время, когда Анненский был назначен на службу в Царскосельскую гимназию, где его сослуживцем был А. А. Мухин, преподаватель истории нового искусства. В гимназии Анненский преподавал с осени 1896 года. Первое стихотворение, которое «приоткрывает» завесу отношений с Е. М. Мухиной, было датировано 1900 годом, а первое письмо, отправленное ей — 1 августа 1904 года.
Стихотворение «Traeumerei» (одно из немногих датированных Анненским) написано в вологодском поезде в ночь с 16 на 17 мая 1906 г. А через два дня, 19 мая, поэт отправил Мухиной уже из Вологды письмо, которое трудно определить иначе, как любовное, хотя о любви в нем не говорится ни слова.
Отношения Анненского с Мухиной, по-видимому, были сложными. И дело здесь не только во внешних обстоятельствах. Внутренне одинокий и осознающий трагизм своего одиночества, Анненский напряженно искал выхода из него. Однако безысходность была в прекрасном, но бесплотном мире идей, слишком опосредованно связанном с миром реальным, окружавшим поэта.
В связи с этим, становится понятно «смутное содержание» стиха, однако, названием своим поэт ставит еще какой-то вопрос. Если он жаждал встреч, почему же выбирает для названия слово с суффиксом («-ei»), который снижает смысл слова Мечта? Не всё, однако, нуждается в абсолютно точном и однозначном прочтении, важнее то состояние, которое образуется в итоге.
При всём том, что, в целом, образно-эмоциональный план этого стихотворения и его претворение Смирновым совпадают, и многое по части, например, стихового размера (многое заимствовано, но развито гораздо интенсивнее, и еще разнообразнее и резче сформировано время, постоянно то «сжимающееся», то «разжимающееся (я употребляю слово «заимствовано» именно потому, что для Смирнова зачастую текст является лишь «поводом для создания музыки», он далеко не всегда стремится к реализации замысла поэта, он создаёт своё «по мотивам текста»)) также совпадает, в строении, в самой «конструкции» наблюдаются различия. Так, Смирнов по-другому объединяет или разъединяет строфы, а иногда и предложения.
Приведу это стихотворение с разметкой так, как мне это видится у Анненского и у Смирнова.
У Анненского:
Сливались ли это тени,
Только тени в лунной ночи мая?
Это блики, или цветы сирени
Там белели, на колени
Ниспадая?
Наяву ль и тебя ль безумно
И бездумно
Я любил в томных тенях мая?
Припадая к цветам сирени
Лунной ночью, лунной ночью мая,
Я твои ль целовал колени,
Разжимая их и сжимая,
В томных тенях, в томных тенях мая?
Или сад был одно мечтанье
Лунной ночи, лунной ночи мая?
Или сам я лишь тень немая?
Иль и ты лишь мое страданье,
Дорогая,
Оттого, что нам нет свиданья
Лунной ночью, лунной ночью мая.
У Смирнова (см. нотный материал Приложения):
Сливались ли это тени,
Только тени в лунной ночи мая?
Это блики, или цветы сирени
Там белели, на колени
Ниспадая?
Наяву ль и тебя ль безумно
И бездумно
Я любил в томных тенях мая?
Припадая к цветам сирени
Лунной ночью, лунной ночью мая,
Я твои ль целовал колени,
Разжимая их и сжимая,
В томных тенях, в томных тенях мая?
Или сад был одно мечтанье
Лунной ночи, лунной ночи мая?
Или сам я лишь тень немая?
Иль и ты лишь мое страданье,
Дорогая,
Оттого, что нам нет свиданья
Лунной ночью, лунной ночью мая.
Итак, становятся очевидными некоторые различия, которые, однако, каждый исследователь может видеть индивидуально.
В более крупном делении (при всём том, что сами эти разделы часто будут очень короткими) для меня были важны разграничения, связанные с появлением алеаторического материала на новом уровне (повышающемся). Так, основными, своего рода, «рефренами» весьма специфического, в силу особенностей современной музыки в целом и стиля Смирнова в частности, я считаю разделы — с начала до последнего «ниспадая…» — такты 1−14 (алеаторическая секция задаёт трихорд «h-cis-d»), далее — одно предложение (такты 15−18) — «Наяву ль и тебя ль безумно и бездумно я любил в томных тенях мая?» (алеаторика перемещается на тон вверх, трихорд того же соотношения — но «cis-dis-e»), далее — часть предложения (такты 27−30) — «в томных тенях, в томных тенях мая?» (алеаторика поднимается до «d-e-f»), и последний, в своем роде (с такта 40 до конца пьесы), — «оттого, что нам нет свиданья лунной ночью, лунной ночью мая…» (с взлетевшей до «f-g-as» алеаторической секцией).
В чуть более мелком делении (хотя зачастую эти разделы будут длиннее некоторых «рефренов») важны те своеобразные «эпизоды», где алеаторических секций нет, но которые «меняют ход развития» предшествующего ему материала, содержащего в себе алеаторику (здесь будет уместным уточнить, что параллельно с алеаторическими секциями развивается, собственно, основной тематический материал, который эти изменения и претерпевает).
В свою очередь, у «эпизодов» тоже наблюдаются некоторые еще более мелкие разграничения, которые ощущаются по тому состоянию, которое они создают определёнными средствами.
Так, первый эпизод (такты 19−26) — «Припадая к цветам сирени лунной ночью, лунной ночью мая, я твои ль целовал колени, разжимая их и сжимая» разделяется еще на два. Первый заканчивается на слове «мая» (такты 19−22) — и состоит из коротких, различных по продолжительности «всхлипываний» с резкими динамическими градациями и даже несколько переходящими пределы разумного динамическими «наплывами» от piano к forte и fortissimo. Всем этим достигается состояние экзальтированного стремления к неосуществимому.
Второй подраздел этого эпизода (такты 23−26) — «я твои ль целовал колени, разжимая их и сжимая» (продолжение же этого предложения Анненского словами «в томных тенях… мая» Смирнов, на мой взгляд, всё-таки, «перенёс» на следующий раздел, несмотря на то, что тонально он его как раз готовит в этом подразделе — переходя от fis-moll/h-moll в первом позразделе эпизода к d-moll второго подраздела (см. «стык» 22 и 23 тактов) — методом «перемещения тональности», используя тон d как тон вращения — из терцового в h-moll он становится сначала терцовым B-dur как VI ступени d-moll, а затем основным d-moll). Таким образом, делая эту цезуру, Смирнов подчеркивает весьма натуралистичные «разжимая их и сжимая», вырисовывая это настолько ярко и откровенно-восторженно (вся фраза из низкого регистра взмывает ввысь, и очень быстро), что на мгновенье кажется, что Мечтанье уже стало явью. Однако, есть причины, позволяющие говорить о создании Смирновым очень возвышенного и утончённого образа, несмотря на эти натуралистические особенности. Об этом чуть позже.
Возвращаюсь к строению номера. Далее, второй эпизод — от слов «Или сад был…» до слова «дорогая» (такты 31−39) разделяется даже на три микрораздела — первый — «Или сад был одно мечтанье» (всего один такт — 31), второй — «лунной ночи, лунной ночи мая» (такты 32−34), третий — «или сам я лишь тень немая, иль и ты лишь моё страданье, дорогая» (такты 35−39). И вновь последний подраздел эпизода тонально готовит следующий за ним рефрен — после краткого отклонения в g-moll в первом подразделе (такт 31) — к d-moll второго подраздела (такты 32−34) и к f-moll третьего подраздела с приёмом «перемещения тональности», уже использовавшимся ранее в этой пьесе, однако теперь тоном вращения становится f (см. «стык» тактов 34−35), и постигает его та же участь, что и некогда постигла тон d (на «стыке» 22 23 тактов). Здесь стоит отметить, что перед переходом тонов вращения в иное качество наблюдается явление «наслоения функций» — тонической и доминантовой, что, вместе с некоторыми другими особенностями, которые очень «возвышают» создаваемый образ несмотря на «снижение», предписанное Анненским в названии (Traeumerei), такими как встречающиеся в музыке Баха длинные нисходящие линии басов (см. пример 8 БАХ ЗДЕСЬ), сама мелодика основного интонационного материала и его развития. У Смирнова в этом номере мы видим много нисходящих линий у басов по хроматизму, в том числе. Как «пробу» такого движения баса мы видим в тактах 6−7-8 — линию «h-a-g-fis» (см. пример 9), а в тактах 10−11 басы дают как бы еще вариант — «a-gis-fis» (см. пример 10), он звучит уже совместно с продолжением альтов) — которая, однако, находит завершение — «e-d-cis» у альтов косвенно (такты 10−11−12), то есть эти ноты идут не подряд, но этот контур скрытого двухголосия, и он виден и слышен). В такте 16 нисходящий басовый ход с хроматизмами («dis-cis-his-h») — см. пример 11 — привносит особую утончённость всей музыкальной ткани.
Дальше — больше, линия будет длиннее (см. пример 12) в тактах 19−20−21 (вернее будет даже сказать, что линия начинается от dis, который «дистанционно» захвачен басами — в 18 такте) — «d-cis» альтов, повторённые тенорами и продолженные «h-a-gis» басов, а дальше, хоть и на октаву выше у теноров «g-fis» и подхваченные басами «e-d-cis-h-ais», но в принципе своём — всё это одна линия. В тактах 23−26 мы также можем наблюдать нисходящую линию (см. пример 13), которая еще больше «запрятана», однако, присутствует, в основном, в гармонической основе — как фригийский оборот в басу — это линия «d-c-b-a» (гармоническая пульсация — потактовая) — в такте 23 — d — педаль басов, в такте 24 — с — как главный тон, в такте 25 — b — главный тон, всё же остальное «кручение» — своеобразная мелодическая фигурация, а в такте 26 — a — у теноров (на третьих тенорах в этом такте, получается, и держится вся эта «взмывающаяся вверх» вспышка, со второй восьмой такта они находятся под басами).
Своего рода «нащупывания» следующего нисходящего хода мы найдем в такте 31 (см. пример 14), где басы, по сути, опираются на «g-f-e», которые через такт, в 33 (в ином оформлении) прослеживаются у альтов с тенорами (тон g), передающими начало басам (f-e) (см. пример 15).
Наконец, после двух попыток развития «g-f-e» в тактах 35−38 дан уже звучащий более утвердительно ход «f-es-des-c» (см. пример 16).
С первыми тремя тонами всё ясно — они в наличии у басов, а вот тон c появляется уже похожим способом с тем, что было ранее с тоном «a» в такте 26 (см. пример 13) — то есть этот безусловно опорный в гармоническом отношении звук в начале 38 такта чисто тесситурно перекрыт басом (который даёт, кстати, как и в предыдущем подобном месте, квинту опорного тона — но снизу! — такие приёмы, кстати, у Смирнова довольно часто встречаются, что даёт вместе с другими приёмами тот самый эффект «расширения пространства», который мы можем слышать и чувствовать при хорошем исполнении этой музыки), но зато усилен остальными тремя партиями, а вторым тенором еще и задержан на две восьмые.
Подводя черту по этой особенности, можно сказать, что все присутствующие в этом номере более «уверенные» (и иногда более длинные), нисходящие ходы сначала как бы «апробируются» ходами, как правило, более короткими, то есть нужная интонация «нащупывается» Смирновым, как «нащупываются», кстати, и сами слова Анненским в этом стихотворении, множество повторений отдельных фраз «лунной ночью, лунной ночью мая», «лунной ночи, лунной ночи мая» — это становится и каким-то заклинанием (та самая «лунная ночь» — навязчивая идея), и вдобавок как бы подчёркивает какую-то робость признания самому себе в тех желаниях, которые, однако, так и остаются неосуществлёнными. «Сетования» на эту неосуществимость — это сольные, одинокие пост-высказывания теноров (интонационно основанные на материале, с которого начинают сопрано и альты в этом номере) в тактах 41−43 и 46−48 (см. пример 17) и басов, вторящих тенорам «на свой лад» — в прямом и переносном смыслах! — в тактах 44 и 48−49 (здесь басы вообще пытаются увести нас куда-то совсем далеко и глубоко — особенно тонами ges и fes).
Что касается интонационного материала в этом номере, то он образуется из «зерна», заложенного в трихордовой алеаторической попевке — это малосекундовая интонация (к слову сказать, такой же интонационной организации попевка присутствует в концерте Смирнова на стихи Яворова в переводе Озерова для женского хора «Благовещение», в номере «Люблю тебя», и там она тоже является «зерном» и в алеаторических построениях, и в основном мелодическом материале (см. Приложение 2), развивающемся из этого «зерна»), продолжает далее развитие в разных направлениях — в восхождении, как в первых двух слогах слова «сливались», и в нисхождении («ниспадании»), как в третьем — четвёртом слогах первого слова (см. пример18).
В первых двух фразах, которые исполняют сопрано и альты, образуется своеобразная сцепка двух трихордов — «e-fis-g» и «ais-h-cis», которые, ввиду особой композиторской техники Смирнова, образуют «кластер», который, однако, составлен из тонов, каждый преобразовался в из которых имел мелодическую функцию при появлении, а затем, при «зависании», преобразовался в относительно инертный тон педали-кластера (я говорю об относительности данного явления, так как у Дмитрия Валентиновича даже «зависшие» тоны, как правило, несут очень важную нагрузку — они всегда призваны как бы «прорезать» создаваемое пространство, по-особому его «высвечивать», однако, при исполнении необходимо учитывать то, что они не должны перекрывать материал-носитель слога). Эти трихорды, а также и трихорд в алеаторической секции, вырисовывают, кстати, саму идею «трилистника» .
Как уже было сказано ранее, этот номер концерта, несмотря на конструктивные разночтения Анненского и Смирнова, в образно-эмоциональном плане композитором трактован в подобном Анненскому ключе, но, как мне кажется, с усилением страстно-вспыльчивого начала, то есть образ рассказчика-персонажа у Смирнова гораздо менее «рассеян», менее меланхоличен.
Вся призрачность, неопределённость картинки природы, «среды» — «сливались ли это тени…», «это блики или цветы сирени…» — Смирновым явлена с помощью кластеров, витиеватой мелодии, разных метро-ритмических составляющих. Кстати, состояния природы и героя совпадают (в литературе это называют «психологическим параллелизмом»), и средства композитором использованы те же.
В чрезвычайно быстро меняющихся метро-ритмических построениях, в разного размера эпизодах, в разной длины фразах, в ярких фактурных и тесситурных вспышках, в «разрастающихся» в разные стороны регистровых контрастах главной остаётся необыкновенно гибкая мелодическая линия, которая взволновывает и захватывает и сильной страстностью, и утончённостью, и возвышенностью.
Глава 4.2 «Струя резеды в тёмном вагоне…»
У Анненского это стихотворение входит в «Складень» под названием «Добродетель» (имеются разночтения по части принадлежности этого стихотворения «Складням» или «Трилистникам», здесь мне представляется более достоверной первая версия, так как это ближе непосредственно замыслу Анненского, подтверждение чему находится в письмах). Интересно проследить, какие символы использует Анненский. Это цветы — хризантемы (эти строки выпущены композитором), резеда и левкои. Также среди ярких символов — число семь. Есть разные трактовки символов цветов, в частности, вот некоторые из них: хризантема — символ целомудрия, невинности и чистоты; любви; глубокой безмолвной печали; смерти. Левкой — «ночная фиалка» (запах левкоя очень усиливается к вечеру), «королевский цветок», символ королевского достоинства. Резеда — символ утончённости; женственности и чистоты; сердечной привязанности; искренности. Говорить о смысле стихотворения непросто, но, вероятнее всего, можно сосредоточить основную мысль на такой сентенции как «первая брачная ночь». Семёрка (последняя строка стихотворения — «Стрелка будет показывать семь…») имеет огромное количество значений. Как сумма тройки (символ неба и души) и четвёрки (символ земли и тела), семёрка является символом космического совершенства, полноты. Известны семь ключей миропонимания, семь религий, семь космических эр, семь областей ада, семь дней недели, семь нот, семь чудес света, семь смертных грехов, семь категорий абсолютной оценки, семь таинств и даров Святого Духа и т. д. Но самым главным для нас является то, что семёрка — ещё и символ девственности и число Великой Матери.
С большой степенью вероятности можно говорить, что это стихотворение, как и «Traeumerei», тоже связано с фактами биографии Анненского. По некоторым данным, датируется оно 11 декабря 1908 года. Возможно, это стихотворение навеяно отношениями с А. В. Бородиной, о которой известно крайне мало. Она была женой известного в своё время инженера-путейца А. П. Бородина, была умна, широко образованна, знала и любила музыку. Не известно, когда завязалась дружба Анненского с Бородиной, но несомненно, что эта женщина занимала значительное место в его жизни. Сохранились письма к ней, в одном из которых Анненский пишет: «Часто-часто за последнее время останавливал я свои мысли на Вас, дорогая Анна Владимировна, и чувствовал, что мне недостаёт Вас: в разговорах именно с Вами мне не раз приходили мысли, которые потом я обдумывал для своих сочинений, и никогда не утомляло меня — как утомляет почти всё на свете — сидеть под зелёным абажуром — и я только жалел, что стрелка идёт слишком быстро» (8).
А, быть может, это стихотворение — обращение к племяннице Анненского, вышедшей замуж — и первые слова — «напутствие» ей — «Не буди его в тусклую рань…». Впрочем, точная биографическая привязка, даже если бы она была более реальна, не отняла бы очарования самого стихотворения, полного символов, «недосказанностей» и чарующе-таинственных зарисовок.
Хотелось бы обратить внимание на слова Анненского из цитируемого выше письма Бородиной — «…что стрелка идёт слишком быстро» (хоть это и не самое оригинальное высказывание относительно времени, тем не менее). У Анненского вообще наблюдается особое отношение ко времени, можно сказать, даже особые отношения со временем. Это могло быть вызвано, частично, и тем, что он страдал от сердечной болезни, однако, это не единственная причина. Вероятнее всего, он обладал тем особенно острым чувством времени, которым обладают люди очень чуткие, чувствительные, зачастую ощущающие своё человеческое одиночество в этом мире (а он, по свидетельству многих его близких знакомых, именно таким и был).
Лейтмотив времени, неумолимо подчиняющего себе всю жизнь человека, пронизывает творчество Анненского. Часто Время выступает «от имени» часов — механизма, придуманного человеком, казалось бы, для того, чтобы над Временем властвовать, но оно не сдаёт своих позиций и мстит человеку — апогей этого мы увидим в «Тоске маятника» (в концерте Смирнова это последний номер — такой вот финал). Подробнее об этом в главе, посвящённой пятому номеру цикла Смирнова.
Во втором номере, уже есть и достаточно туманные определения времени «тусклая рань», есть и нечто абстрактно-символически-весомое «и минуты ее на счету», «как минуты — часы нетаимой и нежной красы на ветвях», так есть и очень чёткие указания времени («стрелка будет показывать семь») — хотя здесь, при всей чёткости, и у Анненского, и вслед за ним — при еще большей чёткости и подчеркнутости этой цифры у Смирнова — три партии в последней фразе повторяют это «семь» аж 9 раз — еще нет того сверхтрагического ощущения Времени и его преподнесения, которое мы видим в пятом номере «Тоска маятника» .
Переходя непосредственно к анализу музыки Смирнова, нужным считаю вновь привести стихотворение таким, каким оно является у Анненского, и таким, каким его использует Смирнов. Композитор не только по-другому трактует структуру стиха, его метро-ритмику, но ещё и отбрасывает некоторые строки. По выражению самого автора музыки, который «не хотел обидеть замечательного поэта», «что-то с логикой музыкального развития не совпадало», и «структура сама выбросила» некоторые части. Так выглядит стихотворение в вариантах — «оригинальном» и «прочитанном» .
У Анненского:
Dors, dors, mon enfant!
Не буди его в тусклую рань,
Поцелуем дремоту согрей.
Но сама — вcя дрожащая — встань:
Ты одна, ты царишь. Но скорей!
Для тебя оживил я мечту.
И минуты ее на счету.
…
Так беззвучна, черна и тепла
Резедой напоенная мгла.
В голубых фонарях,
Меж листов на ветвях
Без числа
Восковые сиянья плывут
И в саду,
Как в бреду,
Кризантэмы цветут.
…
…
Все, что можешь ты там, все ты смеешь теперь
Ни мольбам, ни упрекам не верь!
…
Пока свечи плывут
И левкои живут,
Пока дышит во сне резеда ;
Здесь ни мук, ни греха, ни стыда.
…
Ты боишься в крови
Своих холеных ног,
И за белый венок
В беспорядке косы?
О, молчи! Не зови!
Как минуты — часы
Не таимой и нежной красы.
… На ветвях,
В фонарях догорела мечта
Голубых хризантем.
…
Ты очнешься — свежа и чиста,
И совсем. о, совсем!
Без смятенья в лице,
В обручальном кольце
…
Стрелка будет показывать семь.
У Смирнова:
Dors, dors, mon enfant.
Не буди его в тусклую рань,
Поцелуем дремоту согрей.
Но сама — вcя дрожащая — встань!
Ты одна, ты царишь, но скорей!
Для тебя оживил я мечту.
И минуты ее на счету.
В голубых фонарях, меж листов на ветвях,
Восковые сиянья плывут.
Все, что можешь ты там,
Все ты смеешь теперь,
Ни мольбам, ни упрекам не верь!
Пока свечи плывут
И левкои живут,
Пока дышит во сне резеда.
Ты боишься крови
Своих холеных ног,
И за белый венок
В беспорядке косы?
О, молчи! Не зови!
Как минуты — часы
Не таимой и нежной красы на ветвях.
Ты очнешься. свежа и чиста,
И совсем. о совсем! без смятенья в лице,
В обручальном кольце.
Стрелка будет показывать семь!
Таким образом, Смирнов опускает некоторые слова, а где-то и строфы (например, полностью отсутствует «линия хризантем»), что, конечно, не облегчает понимание содержания на логическом уровне. Однако, музыкально явлены образы, которые будут понятны каждому, кто сумеет вслушаться в богатую фактуру, гибкую и «чутко-доверительную» мелодию, тонкие гармонические оттенки, внезапные модуляционные обороты, обертоновую наполненность и сосуществование разных тональных сфер одновременно, «высвеченных» в «кластерах-гроздьях» .
В целом, касаясь разбора этого номера, я бы отметила, что здесь, в противоположность первому номеру (где Смирнов «распластывает» еще больше и без того пластичный стих), у автора музыки более размеренное развёртывание материала, чем у автора текста, это проявляется и в структурах — объединении музыкальной мысли по два или четыре такта — и в какой-то «регулярности» смысловых и метро-ритмических акцентов, которые являются частью созданной Смирновым очень специфичной, но всё-таки колыбельной (баркаролы), и в предсказуемых (ни в коем случае не в плохом смысле этого слова) анакрузах из двух восьмых или шестнадцатых, тоже создающих «убаюкивающий» эффект. У Анненского, несмотря на то, что всё стихотворение выдержано в размере анапеста, при прочтении не выстраивается симметричная структура, так как разнится количество стоп в строках, а обилие многоточий создаёт какие-то паузы… иногда очень продолжительные, но в каждом случае — разной длины. Композитор, наоборот, выстраивает симметричную конструкцию.
Дмитрий Валентинович создаёт своеобразную колыбельную, или баркаролу, (размер для колыбельной достаточно характерный, а для баркаролы обычный — 6/8, но вот темп подвижнее; хоть у пьесы есть эпиграф «Dors, dors, mon enfant» — «Спи, спи, моё дитя» — но явно она адресуется не ребёнку, а, может, тем самым мечтаньям — из первого номера, или самому себе — то есть тому герою, кто мечтает, страдает, надеется, но знает, что ничего из этого не выйдет, и поэтому уже эти мечты и надежды убаюкивает), полную контрастов и в плане хорового изложения, и фактуры, и комбинации тембров, где-то — очень нежную и кроткую (колыбельную), как бы «пробующую ступать» — с постепенным включением партий, от унисона сопрано и альтов в затактах-анакрузах — к «подхвату» мелодии тенорами и «встраиванием» басов как гармонического остова (в тактах 9−12) — см. пример 19, где-то — страстную и экспрессивную (как в тактах 1−2) — см. пример 20 — с крупными «гроздьями-кластерами», которые образованы сплетениями мелодически самостоятельных линий, представляющих из себя опевания опорных тонов — тонического трезвучия gis-moll — и «раздвигающих» в разные стороны удвоенную терцией мелодию.
Экспрессия, напряжённость, острота нерва первых шести тактов пьесы усиливается синкопированными вступлениями тенора и баса (1 такт), сопрано и альта (такты 4−5) — см. пример21.
Внутри этого шеститактового построения такты 3 и 6 являются своего рода «разрядкой» того напряжения, которое возникло в 1 и 4−5 тактах соответственно. «Разрядке» не мешает то, что во втором случае басы, например, подключаются с высокой ноты (но опять же «встраиваются» в уже начавшуюся у теноров линию — такая техника вообще характерна для Смирнова). Здесь эффект убаюкивания достигается ритмом — затактом из двух восьмых — например, к тактам 1,3; или ритмической фигурой четверть и две шестнадцатые (как в такте 7).
Убаюкивающее покачивание есть и в гармонии этого номера, особенно в тактах 3−4-5 (гармоническое звено III6 в сочетании с вспомогательным IV53), 13−16 (плагальный ряд с тоникой на сильное время), 21−24 (похожий на предыдущий ряд, однако не совсем плагальный, в нём есть — в такте 21 на относительно сильное время — доминантовый аккорд, хоть он и проходящий) — см. пример 22, 17−20 (см. пример 23), 29−32 — см. пример 24 (в двух последних случаях — эллиптическая гармония из септаккордов разного качества и их обращений).
Истоки мелодики данного номера концерта — романс (это есть во многих сочинениях Смирнова, и, в частности, в рассматриваемом концерте, однако, в этом номере они выступают «неприкрыто» — то есть, даже плотная фактура не перекрывает их). В самой мелодии этого номера есть разные интонационные элементы, но, в принципе, их ограниченное количество, каждый элемент служит какому-то определённому эффекту. Перечисляю несколько типов интонационных «формул» («формульность» интонаций также характерна для индивидуальной техники Смирнова).
1. Нисходящая или восходящая секундовая интонация с предъёмом в затакте — например, к тактам 1 (у сопрано, 3 (у первых сопрано и альтов), 5 (у теноров и басов) — см. примеры 20, 21; 18 (у теноров и сопрано) — см. пример 23; 26 (у трёх партий, кроме басов) — см. пример 24; 28 (у альтов и теноров) — см. пример 25; 29 (у альтов), 30 (у теноров и альтов) — см. пример 24.
По моим впечатлениям, эта интонация в нисходящем виде даёт всей мелодии оттенок особой бережности, заботы и «участливости» (как в у первого сопрано в затакте к первому такту, у теноров и басов в затакте к пятому), тогда как в восходящем виде эта интонация (поставленная, вдобавок, и в другие ритмические и гармонические условия — анакруза-затакт из восьмой превращается в две шестнадцатые, а гармонически здесь виден контраст плагальной основы первых тактов и секвентных автентических рядов тактов 25−28 — это видно на примере тенорового затакта к такту 26) приобретает какой-то особенно настойчивый характер — см. пример 25.
2. Интонация, состоящая из восходящей или нисходящей секундовой интонации, которая затем идет на квинту или кварту вверх или вниз. Я не стала их «укомплектовывать» в отдельные самостоятельные по классификации формулы, так как, по сути, это однотипные явления (инвертированные), однако, в любом из вариантов комбинаций имеющие определённый эффект. Так, в затакте к 7 такту у первого сопрано — ход на большую секунду вниз, в такте 7 (см. пример 21) скачок на квинту вниз — это, вкупе с движением от многослойности затакта (половина голосов «зависает» на первой ноте мотива) к аскетичности на сильное время седьмого акта (сопрано, альты, тенора сходятся к малой терции), создаёт эффект «падения», а также некоторого фактурного «прояснения». Затакт к такту 21 (сопрано), например, придя в такте 22 в положение основного тона тонического аккорда Cоль-бемоль-мажора, который изложен, вдобавок, широким регистровым «разлётом» с большими расстояниями между тонами (между басом и сопрано — 3! октавы, а внутри всего один тенор со своим терцовым тоном, тоже весьма удалённым от баса и сопрано), достигает в этом положении, в общем-то, своей цели, и дальше вся нисходящая линия отслаивающихся голосов — это «постепенный сход с вершины» (см. пример 26).
Плюс к этому — «разлёт» сжимается, голоса движутся навстречу. Для сравнения — такая же интонация в затакте к такту 29 (альты, передающие интонацию сопрано и тенорам), нашедшая в следующем такте совсем иной выход — завоёванная квинта становится не основным тоном тонического трезвучия (что сообщает известную устойчивость), а терцовым (не основным!) тоном хоть и (нового) тонического аккорда, но не трезвучия, а секстаккорда. Также голоса движутся хоть и в одном направлении (и вниз), но с более интенсивным гармоническим наполнением (эллипсис) — см. пример 24. Поэтому здесь нет такого ощущения «постепенного схода с вершины», а есть ожидание и дальнейшего развития, которое, однако в 32 такте будет внезапно прервано (об этом будет сказано далее).
3. Квартовая интонация, которая затем идет на малую или большую секунду вверх (затакты к 9 и 11 тактам — первый альт; в 9 такте — первый тенор, передающий линию баритону; затакт к 10 такту — первый тенор; в 11 такте — первое сопрано и т. д.) — см. пример 27. В целом, такая интонация с точки зрения создаваемого эффекта работает так же, как интонация с предъёмом — в ней есть что-то очень заботливо-участливое и «охранительное» .
4. Восходящие и нисходящие поступенные линии — попевки опять же из трёх нот. Характерные примеры — затакты — к такту 17 (сопрано), к такту 19 (тенор) — см. пример 23, к такту 25 (тенор) — см. пример 25.
5. Секстовая интонация, столь характерная для жанра романса, встречается у Смирнова нечасто, и, по большей части, в подголосках (переход от 3 к 4 тактам — тенор, см. примеры 20, 21; последние две ноты такта 22 — второй альт — см. пример 26), в басовой линии (переход от такта 25 к такту 26, в 28 такте — см. пример 25). Безусловно, даже находясь не в ситуации тематического материала, такие ходы «прорезают фактуру», обычно они хорошо слышны (на что и рассчитано) и достойно выполняют возложенную на них функцию.
На основе хотя бы вышеизложенных примеров (что отнюдь не является исчерпывающим) можно увидеть, насколько разнообразными становятся и служат разным задачам одни и те же интонационные «формулы», помещённые в различные условия. Это показывает мастерство композитора и по части гармонических решений, и по части изложения основного материала и подголосков.
Этот номер цикла «Кипарисовый ларец» был бы весьма идиллическим (с присутствием и взволнованности, и страстности, и особого трепета), если бы Смирнов не разрушил им же созданную идиллию (а, может, всего лишь её иллюзию?) вторжением в 32 такте в «уютную музыку» резкой малой секунды мужского хора (где басы оказываются в регистре уже довольно высоком — «до» первой октавы) и сменой в 33 такте размера и темпа — размер становится 12/8, темп становится вдвое более подвижным. От «удобного» тонального ощущения нас бросают в какую-то неопределённость, усиливающуюся в 34 такте, где сопрано ведут мелодию по звукам уменьшённого трезвучия «ми-бемоль-до-ля», где особую роль играет тон «ля», это рассмотрим далее (стоит отметить, что по звукам трезвучия на протяжении всего номера движения не было — были «формульные интонации» в различных вариантах, все они родом из романса). На протяжении ведения линии у сопрано и альтов (с затакта 34 по 36 такт) станет ясно, что опорными тонами у альтов являются сначала «ля-фа-диез-ре-диез», затем «ми-соль-си-бемоль» — тоже уменьшённые трезвучия! — и это постепенное секвентное восхождение приводит женский хор к уменьшённому трезвучию «фа-бемоль-ре-бемоль-си-бемоль». В такте 37 «каскад», начатый сопрано и альтами, продолжают тенора и басы. При этом образуются два пентахорда одинаковой структуры (минорного наклонения, с низкой пятой ступенью), которые и соединены, и разъединены тоном «си-дубль-бемоль» (в дальнейшем именуемый «ля») — см. пример 28.
Он-то («ля») и является конфликтным, и с него начинают своё противоречащее всему остальному в тактах 39−43 (сопрано, басам, тенорам) мелодическое движение альты (см. пример 29).
Таким образом, в последних пяти тактах противоборствуют, а может, и сосуществуют некий устой «ми-бемоль-си-бемоль» (басы-тенора) и мелодическое движение (альты), опирающееся на тоны «ре-ля» (также в этом мелодическом движении присутствует тон «фа», который вступает в конфликт с «фа-бемолем» у сопрано, нашедшим себя в такте 37 в результате завоеваний на протяжении предшествующих четырёх тактов).
Здесь представляется уместным привести пример из творчества самого Дмитрия Валентиновича. В его сочинении «Litaniae Lauretanae» в номере «Sancta Maria» есть похожее сочетание тонов — особенно на словах «Rosa mystica…» — что действительно создаёт очень таинственную «обстановку», погружая нас в какую-то «спиритуальность» (см. пример 30).
Подобное этому таинственное ощущение и в похожем ладу можно увидеть также в пьесе «Regina Angelorum» из вышеупомянутого концерта (см. пример 31). Для творчества Смирнова вообще характерна такая черта — это касается не только сочинений на духовные тексты — он всегда помещает нас «вглубь» переживания, приобщает и исполнителя, и слушателя к этой особой «спиритуальности», не объясняет, «что есть истина», а даёт «ключ познания истины» .
Ввиду всего вышеизложенного относительно перелома, произошедшего, начиная с 32 такта второго номера, представляется очевидным, что никакого решения конфликта быть не может. Автор музыки предпринял для этого все усилия, оставив вопрос открытым. Появление «каскада» в такте 37 начало «путешествия в бесконечность», которое прервано в 39 такте манифестацией сосуществования обречённых на вечное противоборство миров.
Стоит отметить, что такой ход событий в номере 2 «поворачивает» колесо дальнейшего развития концерта Смирнова «Кипарисовый ларец». Если в первом номере мы лишь начинали какое-то движение «в бессознательное» — через мечтанье — но ещё не знали, куда это приведёт, то в конце второго номера уже яснее обозначилось направление этого движения — в бессознательное, которое вскрывает все беспокойства, тревоги и страхи внутреннего мира того самого героя Анненского, решающего «постылый ребус бытия». В этом смысле автор музыки, при всём своём индивидуальном прочтении поэта, уловил «общее направление мысли» очень точно.
Глава 4.3 «Призраки»
У Анненского стихотворение «Призраки» находится в «Трилистнике весеннем» между стихотворениями «Чёрная весна» и «Облака». Любопытно то, как Анненский преподносит восприятие весны — в первом стихотворении микроцикла описание мрачности похоронной процессии сливается с мрачностью весеннего таяния (в первоначальном варианте стихотворение так и называлось — «Тает»). То есть, здесь отсутствуют светлые мотивы приближающегося тепла, оживания природы, здесь акцент делается на «смерти» зимы («…ничего печальней нет, чем встреча двух смертей») — таким образом, с начала прочтения этого Трилистника нас погружают в атмосферу мрака, тьмы, ничего хорошего не предвещающих. И действительно, во втором стихотворении Анненский даёт менее конкретные образы, но более таинственные. Это стихотворение у Анненского «эскизно», оно похоже на какие-то «наброски», «зарисовки», и Смирнов здесь идёт вслед за автором текста в воплощении его. Стоит отметить, что композитор полностью следует за текстом (и не выбрасывая ничего из него, и сохраняя метроритм и структуру, данную его автором). Привожу текст стихотворения:
И бродят тени, и молят тени:
" Пусти, пусти!"
От этих лунных осеребрений
Куда ж уйти?
Зеленый призрак куста сирени (1)
Прильнул к окну.
Уйдите, тени, оставьте, тени,
Со мной одну.
Она недвижна, она немая,
С следами слез,
С двумя кистями сиреней мая
В извивах кос.
Но и неслышным я верен пеням,
И как в бреду,
На гравий сада я по ступеням
За ней сойду.
О бледный призрак, скажи скорее
Мои вины,
Покуда стекла на галерее
Еще черны.
Цветы завянут, цветы обманны,
Но я, я — твой!
В тумане холод, в тумане раны
Перед зарей.
В этом стихотворении метроритмика переменна, в первой строке каждой строфы дважды чередуются амфибрахий (трёхдольный размер с ударной второй долей) и хорей (двудольный со второй ударной долей), а вторая строка строфы представляет из себя, как правило, ямбическую структуру (двудольность с ударным вторым слогом). При этом отчётлива структура строфы — в ней три микропостроения (например, «Цветы завянут» — первое, «цветы обманны» — второе, «но я, я — твой!» — третье), что тоже, в свою очередь, является отражением идеи трилистника. Это очень чётко «схвачено» Смирновым, то есть структуру он прочитывает такой, какой её создал Анненский. Переменность метроритма стиха в музыке выразилась с помощью размера 5/8, являющегося определяющим. Даже там, где Смирнов меняет размеры — например, в тактах 1−3 (см. пример 32) размеры 5/8, 6/8, 4/8 (для сравнения — в тактах 4−6 (см. пример 33) всё записано в размере 5/8) — музыкальная структура остаётся такой же.
Среди всех номеров концерта «Призраки» — самый яркий носитель «зарисовочности». Если оценивать место в форме «по-крупному», то это походит на scherzo, причём, такое, которое (после произошедшего в предыдущем номере перелома) утверждает ту сферу, к которой всё это стремится. Здесь, несмотря на наличие ещё некоторой «пластичности», выраженной в тональном плане, нас активно атакует «формульность» трёх основных попевок, причём не идиллических, как в номере 2, а беспокойных, тревожных, порывисто-боязливых (для сравнения — в первом номере, по сути дела, тоже «эксплуатируется» некая формула, но она не находится в таких жёстких метро-ритмических и интонационных рамках, там мелодические построения все время разной длины, и имеет место «мелодическое продление», которого нет здесь), сковывают «остинатность» метра (вся пьеса — это цепь микропостроений-трехтактов — здесь же, кстати, стоит отметить особое соответствие «трилистнику») и даже «настырность многообразия» тональных переходов, являющаяся «обратной стороной медали» этой самой тональной «пластичности». Тем самым нас готовят уже к той мерности, которая будет в четвертом номере, и к той «остинатности», которая будет в пятом.
Еще больше, чем другие номера, этот номер полон каких-то бликов и теней. Правда, блики у Смирнова вслед за «лунными осеребрениями» Анненского в этом номере, в отличие, скажем, от бликов и теней номера 1 — очень неспокойны, неуловимы и еще как будто чем-то угрожают тому, кто с ними ведет диалог. Хотя, взаимоотношения не так просты — в начале тени «молят…: «Пусти, пусти!» Казалось бы, они просят их отпустить, а на самом деле и держат — «от этих лунных осеребрений куда ж уйти». Но герой молит оставить с ним одну. А всех остальных уйти. Она особенна, неповторима, и, вероятно, для него так же реальна, как и ее владелец, которого здесь нет. Его уже нет… или и не было никогда… этого точно не определишь… Тот, кто ищет ее, вероятно, таки находит, потому что далее он обращается «О бледный призрак, скажи скорее мои вины…», причем сделать это надо действительно скорее, «покуда стекла на галерее еще черны», то есть, пока ночь — ведь с зарей призрак исчезнет и герой останется в неизвестности нахлынувшего пробуждения и наступления нестерпимой реальности. И исход нам не совсем ясен… Мы знаем лишь, что «в тумане холод… раны перед зарей». Что там произошло? Могут быть лишь предположения… но и они не так-то и нужны. Здесь важна та самая атмосфера некой зачарованности и таинственности, какая-то дымка, призрачность и мелькающие туда-сюда искристые тени. На протяжении всей пьесы у Смирнова есть «вставки к мелодии» шестнадцатыми нотами после шестнадцатых пауз, «комплиментарный ритм» (такты 10−11 (см. пример 34) — «Уйдите, тени…» и т. д.), дающие «сбивочность» и неустойчивость всей фактуре и создающие то напряжение, которым пронизана вся эта пьеса от начала до конца.
Это также достигается интонациями в самой мелодии с «гуляющим» ощущением устоев внутри, взять хотя бы самые первые две фразы (см. примеры 33, 34). Также гармонически многое работает на создание такого образа — большое количество отдаленных тональностей на очень кратких временных промежутках — начинаем в сфере «ля», первая фраза заканчивается в Ля мажоре, вторая — в ля миноре (см. примеры 33, 34). А третья фраза (начавшись с ми-бемоль-минорного созвучия и продолжившись со стремлением к фа-минору) — приводит нас в сферу «ми» (см. примеры 35, 34).
Дальше, правда, мы очень сильно отклоняемся, причем пульсируем вместе с героем в какой-то гармонической и мелодической агонии и к фразе «Но и неслышным я верен пеням…» приходим в нечто си-бемоль-минорное (см. примеры 36, 37).
Первый раз, остановившись на фермате, слегка переводим дух после ступенчатого секвенционного спуска («На гравий сада я по ступеням за ней сойду. «) — см. пример 38.
Дальше как-то более отчетливо проступает ми-минор — в нем уже начинается обращение «О бледный призрак…» (см. пример 39).
Однако, в последних трех тактах «В тумане холод…» (см. пример 40), на мой взгляд и слух, тональное ощущение расслаивается настолько, что устоем становится созвучие «фа-ми-соль-диез», верхний звук которого слышится и как третья высокая ступень в ми-миноре, и как третья ступень фа-минора, который хоть немного «маячит» в заключении этого номера — все равно до конца не ясно, что именно это — здесь все заканчивается просто в фа. И в фа, но уже четко и ясно ощутимом — миноре — начинается следующий номер, в котором с тональным планом все более прозрачно.
Продолжая разбор номера «Призраки», нельзя не отметить и особую метрическую структуру — если говорить о метре более высокого, чем тактовый, порядка, то мы видим, что вся эта пьеса построена из фраз длиной в три такта — и, как правило, мелодия «размещается» в размере пять восьмых, но запись не всегда такова — зачастую первый такт записан в пяти восьмых, второй — в шести, а третий — в четырех (см. пример 32) — при этом сохраняется такая «функциональность», когда первые два такта имеют свое микроразвитие, а третий является кадансом, неким завершением этого микроразвития. Таким образом, в «Призраках» сочетается гармоническая, ритмическая (при основной восьмушечной пульсации) и динамическая неустойчивость с относительно устойчивыми мелодическими формулами и с абсолютно устойчивой структурой трехтактов.
Ранее уже затронув понятие «мелодической формулы», можно рассмотреть подробнее этот феномен в творчестве Д.В. смирнова и на примере третьего номера концерта «Кипарисовый ларец». Здесь мы видим, что автор берет за основу три попевки (которые составляют мелодию первого и второго тактов трехтакта), причем две из этих трех — разновидности одной попевки.
Первая из этих разновидностей звуковысотно находится в амбитусе кварты (чаще чистой, а иногда увеличенной) — см. пример 32 — и начинается с вершины, а дальше идет «зигзагом» по терциям. Эта интонация рождает образ беспокойный, даже какой-то мечущийся, и терции, казалось бы — самый что ни на есть консонанс, нечто очень благополучное — здесь выступают практически диссонантно (всё дело в хроматическом «блуждании», которое длится на протяжении всей пьесы в большей или меньшей степени). У меня возникла ассоциация с пьесами «Ангел» и «Сон» концерта Смирнова же на стихи Набокова. В теме «Ангела» изначально тоже присутствуют терции, и также довольно много хроматики (см. пример 3), поэтому они тоже не воспринимаются «благополучно». А в кульминации — так и вовсе «раздирают» — выведенные партией сопрано в верхний регистр, где особенно остро воспринимаются все колебания (см. пример 4). В пьесе «Сон» (образ сна здесь и Набоковым, и Смирновым трактован трагически, и также может быть истолковано и само содержание сна) сама тема (и в «удержанный подголосок») тоже сконструирована так, что «держится» на «сцепке» терций (см. пример 41). Во всех этих случаях терция не является «консонансом». Таким образом, данная попевка становится «лейтмотивом беспокойства» и даже какой-то «угнетённости» .
Возвращаемся к «Призракам». Во второй разновидности попевка расположена также в амбитусе кварты либо тритона (ув.4 и ум.5) — см. примеры 42, 40 — однако начинается не с вершины, а как бы с вводного к ней тона, а затем спускается опять же на терцию и далее идет вниз. В этих попевках автор музыки «играет полутенями» вслед за автором текста (можно сравнить такты 31 и 34 (см. пример 42), 25 и 28 (см. примеры 39 и 43), 2 и 5 (см. примеры 32, 33).
По сравнению с первой разновидностью, здесь появляется ещё больше загадочности, таинственности и какой-то двусмысленности всего происходящего.
Стоит отметить, что «вводнотоновость» вообще очень широко используется Смирновым как в этом номере и цикле, так и во многих других его сочинениях, причем иногда вводные тоны берут на себя функции устоев, это особенно ярко, например, в таком сочинении как Католические песнопения «Litaniаe Lauretanаe» для контр-тенора соло и смешанного хора — они пока что не опубликованы, есть только рукопись, и не записаны на компакт-диск, однако уже исполнялись камерным хором Lege Artis под управлением Б. Г. Абальяна (причём в обоих вариантах — с солирующим контр-тенором и меццо-сопрано — 2я редакция).
Возвращаеся к анализу попевок. Третья попевка — нисходящая гамма (без «зигзагов» и опеваний) в амбитусе кварты или квинты (один раз — м.7). (такты 7−8, сопрано, альты и тенора — см. пример 35; 16−17 (вторые сопрано и альты, а также тенора — инверсионно — гамма вверх — см. пример 36); 19−20 (сопрано) — см. пример 37; 22−23 (сопрано и альты) — см. пример38).
Анализируя способы изложения в «Призраках» можно смело сказать, что техника гокета (бывшего в употреблении уже в XIV веке) и гармонические «повороты» века XX «сплетаются в агонии мятущегося среди теней героя». Однако, есть здесь и так называемые «общие места» — например, в тактах 7−9 — см. пример 35 (это идёт ещё от Калинникова, однако совершенно по-другому трактовано с точки зрения гармонии).
Особенно «реактивным» видится гармоническое наполнение, присутствующее в «Призраках», если принять во внимание темп, в котором всё происходит — =168−176. Все эти гармонические «развороты» (видно на примере 35), так называемая «прерванная гармония» — усиливают создающийся и мелодикой, и ритмикой образ блуждания, неустойчивости, шаткости. Здесь буквально «земля уходит из-под ног», несмотря на обилие педалей, лишь на краткие мгновения «цементирующих» вечное блуждающее движение.
В этом номере очевидно наличие трёх фактурных пластов, притом самостоятельных. И каждый выполняет свою определённую функцию, у каждого своя роль в создании декораций и действия в этой запутанной и таинственной истории.
Итак, здесь есть «педали» (такты 1−2, 4−5, 10−11, 13−14 (см. примеры 32, 33, 34, 44 соответственно) и т. д.) — ответственные за звуковую среду,
мелодия (у альтов и/или сопрано) — тропинка, по которой мечется или ступает главный герой — и мелодико-ритмо-гармонические «вставки» (как правило, у теноров, иногда ещё у баритонов) — собственно, призраки, тени. Любопытно, что «вставленные» частички «мозаики» обычно «зависают» и уже берут далее на себя роль «педалей», расцвечивая и дополняя ту, что уже тянется (см. такты 4−5, например) — тени, появившись, «сливаются» с туманным пейзажем. В этом одна из особенностей «кластеров» Смирнова — как правило, они не те явления, что составляют суть чисто фонической стороны дела, наоборот, в них, чаще всего, присутствуют мелодические и гармонические отношения с основным мелодическим материалом, образуются и подголосочно-полифонические взаимодействия и сплетения линий. «Кластеры-гроздья» образуют «звуковую дымку» (что, кстати, уже было отмечено некоторыми исследователями, в частности, О. Гладковой в статье «Дмитрий Смирнов: музыкант и личность») — причём, в зависимости от художественной задачи, она может быть разной плотности, на разной высоте, разного состава.
" Звуковая дымка" является особенностью индивидуального стиля Смирнова, в этой своей особенности отражающего некоторые импрессионистические ветви многомерного музыкального мышления и слуха композитора.
Продолжая говорить о многопластовой фактуре третьего номера, следует отметить следующую особенность: тенор и баритон во «вставках» действуют по принципу контратенора в том виде, в котором это было в XIV веке. Контратенор (в свое исторически достоверной терминологии) действовал «против тенора», то есть, против той мелодии, которую исполнял тенор. А ритмически в «Призраках» средний пласт действует по принципу гокета (hoquet — фр. — «икота»).
Хоть преобладающим в этом номере является многопластовый полифонический тип фактуры, есть и моменты «совместности» (например, такты 7−9 (см. пример 35), 21−24 (см. примеры 37−38)). И они бывают очень разными с точки зрения своей стилистически-эпохальной направленности. Так, в тактах 7−9 (это уже отмечалось ранее) проявляются традиции Калинникова (при всей выразительности каждого голоса главенствует всё же верхний — сопрано), но в ином гармоническом ракурсе, то в тактах 21−24 (см. примеры 37, 38) сквозит ренессансная ясность и прозрачность (несмотря на слова «и, как в бреду…» — в этой пьесе всё сливается, непонятно, что явь, что фантасмагория). Длится это сравнительно недолго — в такте 25 (см. пример 39) мы возвращаемся к «блужданиям», «скитаниям» и неизвестности (см. пример 39).
В конце этого номера тонально подготавливается четвёртый номер — после всех блужданий (и относительно установившегося с такта 25 (см. пример 39) ми-минора) мы попадаем в фа-минор (отчётливо он проявится в 33 (см. пример 42) такте).
Глава 4.4 «Старая усадьба»
После женитьбы (в 1879 году состоялось венчание с Н.В. Хмара-Барщевской) Анненский ежегодно в течение десяти лет на лето стал приезжать в родовое имение своей жены Сливицкое. Неподалёку от него находилось заброшенное имение Подвойское (скорее всего, это место и было «вдохновителем» появления стихотворения «Старая усадьба»). По воспоминаниям сына, Анненский говорил, что даже «от названия усадьбы веет что-то жуткое». И действительно, стихотворение передаёт атмосферу «вырождения и распада», «сказочной жути», чувство «ужаса бесприютности» (2, с.396)
Привожу обширную цитату (как мне кажется, в ней есть «попадание») из статьи искусствоведа С. Маковского «Иннокентий Анненский» (мне это кажется очень точным попаданием в суть): «Характерны в этом стихотворении образы Анненского-символиста и вообще вся манера его чувствовать и выражать: слова не сами по себе и не обозначенные словами реальности, а то, что между словами, и притом психологически сущее, пережитое. Анненский всегда на земле и всегда где-то в иной духовной действительности; это двоеречие придает произносимым словам как бы новый смысл: они насыщаются смыслом всего, что угадывается сквозь них, за ними. И от краткости, от лаконизма словесных средств только просторнее возникающим образам». (4)
" Старая усадьба" Анненским написана в размере шестистопного хорея, где почти везде есть тройная рифма или консонанс. При этом отсутствует «звуковая декоративность» (4). Опять же, С. Маковский как нельзя более точно характеризует это стихотворение. «Словесное звучание совпадает с образным рисунком. До чего весь Анненский тут, в этой музыке слов, вызывающей целый ряд обертонов, — прислушиваясь к ним, мы ощущаем, как некое наваждение, сущность самого поэта: и печаль его смертельную, и насмешку над собой, и мечтательную оглядку на пройденный путь, и ужас перед всем мертвым, оживающим с колдовской властностью». (4)
У Анненского это стихотворение является частью «Трилистника из старой тетради» (третье в микроцикле). Ему предшествуют стихотворения «Тоска маятника» и «Картинка» (они выдержаны в очень похожем ключе, даже размер и метроритмика этих двух стихотворений полностью совпадают). Общее настроение этого микроцикла мрачное. Привожу текст стихотворения, по мотивам которого Смирнов создаёт четвёртую пьесу концерта «Кипарисовый ларец» .
Сердце дома. Сердце радо. А чему?
Тени дома? Тени сада? Не пойму.
Сад старинный — все осины — тощи, страх!
Дом — руины. Тины, тины, что в прудах.
Что утрат-то! Брат на брата. Что обид!
Прах и гнилость. Накренилось. А стоит.
Чье жилище? Пепелище?. Угол чей?
Мертвой нищей логовИще без печей.
Ну как встанет, ну как глянет из окна:
" Взять не можешь, а тревожишь, старина!
Ишь затейник! Ишь забавник! Что за прыть!
Любит древних, любит давних ворошить.
Не сфальшивишь, так иди уж: у меня
Не в окошке, так из кошки два огня.
Дам и брашна — волчьих ягод, белены.
Только страшно — месяц за год у луны.
Столько вышек, столько лестниц — двери нет.
Встанет месяц, глянет месяц — где твой след?. «
Тсс. ни слова. даль былого — но сквозь дым
Мутно зрима. Мимо. мимо. И к живым!
Иль истомы сердцу надо моему?
Тени дома? шума сада?. Не пойму.
Смирнов полностью следует за Анненским в реализации этих «лирических причитаний» (сгруппированных по три, как правило, что вновь подчёркивает идею трилистника). При чтении стиха в конце каждой строки возникают некоторые остановки. У Смирнова они тоже есть — два сегмента устремляются в третий, где происходит «застревание», обдумывание сказанного и формируется импульс для продолжения, а чаще — нового начала. Первые два сегмента занимают один такт, третий — еще один такт. Мелодия замирает в начале каждого второго такта, а всё, что «бормочут» бас и другие голоса с ритмическим разнообразием — это уже послесловие, эхо.
Стоит отметить, что в этой пьесе у Смирнова снова видны три самостоятельных пласта фактуры (самостоятельность таких пластов в творчестве композитора как одна из характерных черт индивидуального стиля не вызывает никакого сомнения) — снова подчёркивается идея трилистника. Первый пласт фактуры — педаль (как правило, тенор или бас). Второй пласт — мелодический материал, «поющийся» (истоки которого — романс), «рассказывающий историю». Третий пласт — «комментарий» (как правило, у басов, баритонов или теноров), написанный в инструментальной манере и требующий такого же исполнения — чаще — quasi pizzicato, но иногда и arco — когда есть tenuto (для примера достаточно увидеть первые два такта пьесы) — см. пример 45.
Этот материал (третьего пласта, «комментатора», то есть) является очень ритмически острым, с большим количеством синкоп, он становится и ритмообразующим, и «ритморазрушающим», по крайней мере, «сбивающим акценты», которые есть в мелодии — это как будто бы отголосок тех призрачных видений-мимолётностей, которые были в третьем номере.
Все эти «лирические причитания» (выраженные и романсовой мелодией, и формульным, опять же, ритмом) суть какой-то бесконечный поиск, бесконечное движение (оно поддерживается во время остановок мелодии басовой партией, как правило, то есть как раз тем самым «комментирующим» звеном с очень интенсивным ритмическим наполнением) — см. пример 46.
Единственный эпизод, в котором нет этого бесконечного движения — Tranquillo (это продолжается восемь тактов) — см. пример 47. Для сравнения — здесь бас, которому до этого редко удавалось петь «со словами» — у него были, как правило, какие-то отрывки слов, либо «вторы», но не самостоятельные фразы — получает, наконец-то, возможность (в тактах 35−36)" высказаться", да ещё как! Своими тридцатьвторыми он «прорезает» всю плотность фактурного тумана, ритмически поддерживаемый альтами и частично тенорами. Это как вопль, который долго скрывался в глубине и, наконец, вырвался — «крик души», измученной этим бесконечным поиском.
Этот эпизод является целью всех предыдущих исканий. Впервые все голоса начинают петь вместе (такт 33). Создаётся «звуковое марево» (здесь композитору было мало стандартного деления голосов на два, и он разделил всех, кроме басов, на четыре — таким образом, получается как бы линия из точек мелодии и их теней) со сквозящей внутри «марева» основной мелодической линией — у первого сопрано и первого тенора. В такте 34, однако, намерения предыдущего пресекаются (ткань опять разрывается на привычные три пласта — педаль, мелодию и «комментарий» (бас, потом тенор)). Здесь даётся намёк на то, что всё же искания бесполезны. Ответа нет. Сомнение остаётся. В 35−36 тактах предпринимается, однако, очень басовой партии в такте 36)" развернуть" ход событий, но попытка эта вскоре заканчивается «тихой катастрофой» (см. пример 48).
Гармоническое движение по направлению в си-бемоль-минор прерывается. Мы снова в печально-безысходном фа-миноре, который «не желает сдавать позиции». Это та самая обречённость на вечный безрезультатный поиск (теперь уже я бы назвала это главным концептуальным центром всего концерта).
В моём восприятии символом этой идеи (обречённости на безрезультатный поиск) становится, прежде всего, фа-минор, то, с каким упорством он «насаждается» и абсолютно уверенно «сидит на своём месте». В противоположность номеру 3, например, здесь нет пластичных гармонических конструкций, здесь есть либо резкие сопоставления (например, в такте 5 появляется си-бемоль-минор, а в такте 7 происходит уже возврат в фа-минор — см. пример 46), либо неожиданные «сломы» (автор музыки сам говорит «а здесь я ломаю!», говоря о тактах 8−9 — см. примеры 46, 49) — когда, например, появляется ми-бемоль-минор ;
это даже уже не первая степень родства, и звучит этот слом, действительно, очень резко и неожиданно. (Это как бы «проба» — а что есть вокруг — может, что-то стоящее внимания? — нет, одёргивают нас, даже не думайте — всё везде одно и то же — и не пытайтесь что-то найти — это бесполезно). Столь же резко, неподготовлено, звучит возвращение фа-минора в такте 17 (см. пример 50).
Менее резким оказывается сопоставление фа-минора и до-минора — такты 25−26 (см. пример 51), однако, до-минор вносит свою краску, он как бы «высветляет» авансцену действия, «приподнимает» ситуацию выше, чтобы мы смогли получше всё рассмотреть (фа-минор в этом смысле звучит гораздо более сумрачно и «скрытно»).
Чувство бесполезности поиска усиливается и благодаря ритмическим формулам мелодии (первая — как у альтов в первых двух тактах — см. пример 45), вторая — как у сопрано с передачей альтам, например, в тактах 26−27 — см. пример 51 (по сути это сдвинутая во времени назад, с удлинёнными третьей и четвёртой, седьмой и восьмой нотами «копия» первой «формулы» — можно сравнить «сердце дома…» и «не сфальшивишь…»). Они полностью соответствуют «лирическим причитаниям», приводя этот поток ко второму такту двутакта и позволяя там немного «отдышаться» перед новым «всхлипом» .
Считаю уместным добавить, что в этом номере есть характерная для Смирнова особенность (это касается гармонического «пронизывания») — а именно — зачастую основной тон аккорда-остова, основы какого-то построения, не продлевается на весь такт, а как бы остаётся «в уме», вернее, рассчитано на то, что будут жить его обертоны. Это видно на примере тактов 14, 16 (длящаяся вертикаль лишена тона «es», но именно он является основой — и клиновидный акцент у баса на самой нижней ноте как раз даёт нам подсказку — нота должна быть настолько глубоко «пронзённой», чтобы остаться «в ушах» и дать нужные обертоны) — см. примеры 44,50. Ещё интереснее — тогда, когда основной тон лишь «подразумевается», что видно в тактах 7−8 (см. пример 46) — устой «f» появляется только в 8 такте, но в 7 он тоже главный! Данная особенность позволяет говорить о том, что в музыке Дмитрия Валентиновича раскрываются не только «дополнительные семантические и смысловые поля слова», но и «чисто звуковые поля и пространства», в каждом отдельном случае имеющие разную направленность и значение.
В «репризе» четвёртого номера мы наблюдаем следующую картину — с такта 41 до конца (см. пример 52) — инструментальное начало, которое присутствовало на протяжении всего номера в качестве комментария, теперь «захватывает», «поглощает» сдающую позиции мелодическую линию.
Считаю необходимым заметить, что всё происходящее в четвёртом номере было подготовлено в третьем — состояние какой-то опустошённости в четвёртом номере приходит после жутких «метаний» в третьем. Апогей этого состояния мы увидим в пятом номере. Таким образом, бетховенский принцип (наследованный Танеевым и не только) реализации — «от мрака к свету» — нам решительно не подходит, потому что от каких-то хотя бы намёков на возможный светлый исход, «набросанных» бегло и нечётко в первом номере и во втором до перелома, мы переходим в уже совершенно ясно очерченную сферу мрачных образов, «фантастической жути», страха и ощущения приближения скорого конца.
Глава 4.5 «Тоска маятника»
Стихотворение Анненского «Тоска маятника» заключено в «Трилистник из старой тетради» (в соседстве с «Старой усадьбой» и «Картинкой»). Исходя из своего настроения, стихотворение это могло бы прекрасно себя ощутить, на мой взгляд, и в других «Трилистниках» — например, в «Трилистнике тоски» (хотя там настроение менее ожесточённое, менее агрессивное, тоска более мягкая) или, что ещё более созвучно тону и главной идее микроцикла — в «Трилистнике обречённости» .
Последний — о власти времени над человеком. Он состоит из следующих стихотворений: «Будильник», «Стальная цикада», сонета «Чёрный силуэт» .
Интересно, что в этом «Трилистнике» как раз сплетены мотивы Тоски и Времени — а это, как мне кажется, основные темы творчества и тревоги жизни Анненского, излитые в разных его сочинениях. В связи с этим хотелось бы привести несколько очень показательных строф из стихотворений «Трилистника обречённости» — так как они дают ключ к пониманию и «Тоски маятника» .
" Я знал, что она вернется
И будет со мной — Тоска.
Звякнет и запахнется
С дверью часовщика. «
(из «Стальной цикады»)
" Пока в тоске растущего испуга
Томиться нам, живя, еще дано,
Но уж сердцам обманывать друг друга
И лгать себе, хладея, суждено;
<�…>
Хочу ль понять, тоскою пожираем,
Тот мир, тот миг с его миражным раем.
Уж мига нет — лишь мертвый брезжит свет…"
(из «Чёрного силуэта»)
" Цепляясь за гвоздочки,
Весь из бессвязных фраз
Напрасно ищет точки
Томительный рассказ
О чьем_то недоборе
Косноязычный бред. .
Докучный лепет горя
Ненаступивших лет,
Где нет ни слез разлуки,
Ни стылости небес,
Где сердце — счетчик муки,
Машинка для чудес. «
(из «Будильника»)
Теперь я привожу стихотворение, которое Смирнов взял для заключительного номера концерта «Кипарисовый ларец» — «Тоска маятника» :
Неразгаданным надрывом
Подоспел сегодня срок;
В стекла дождик бьет порывом,
Ветер пробует крючок.
Точно вымерло все в доме.
Желт и черен мой огонь,
Где-то тяжко по соломе
Переступит, звякнув, конь.
Тело скорбно и разбито,
Но его волнует жуть,
Что обиженно-сердито
Кто-то мне не даст уснуть.
И лежу я околдован,
Разве тем и виноват,
Что на белый циферблат
Пышный розан намалеван.
Да по стенке ночь и день,
В душной клетке человечьей,
Ходит-машет сумасшедший,
Волоча немую тень.
Ходит-ходит, вдруг отскочит,
Зашипит — отмерил час,
Зашипит и захохочет,
Залопочет горячась.
И опять шагами мерить
На стене дрожащий свет,
Да стеречь, нельзя ль проверить,
Спят ли люди или нет.
Ходит-машет, а для такта
И уравнивая шаг,
С злобным рвеньем «так-то, так-то»
Повторяет маниак.
Все потухло. Больше в яме
Не видать и не слыхать.
Только кто же там махать
Продолжает рукавами?
Нет! Довольно. хоть едва,
Хоть тоскливо даль белеет
И на пледе голова
Не без сладости хмелеет.
Это стихотворение Смирновым трактовано в таком же, как у Анненского, ключе. Значение слов и смысл его (стихотворения) усиливаются благодаря тому, что Смирнов поместил его в конец своего цикла. Это по сути апогей того состояния, которое готовилось исподволь с самого начала, а уже довольно открыто начиная с третьего номера («Призраки»), когда стало ясно, что «предупреждение» в конце второго номера («Струя резеды в тёмном вагоне») не было шуткой. Здесь мотивы Тоски, Времени и его выразителя — Часов (Маятника, в данном случае) — переплетаются самым тесным и роковым образом. Острое ощущение стремительно уходящего «личного времени», отпущенного на эту, земную, жизнь, выходит на первый план. Реальность и потусторонность окончательно смешиваются.
Мелодическое начало, господствовавшее в первом и втором номерах, и постепенно начавшее «отмирать» или, по крайней мере, трансформироваться в третьем и четвёртом номерах, здесь перестаёт играть важное значение как основной выразитель чувств, эмоций. Я бы даже сказала, что вокальное начало уступает инструментальному (что «появилось» и «проросло» в четвёртом номере — в фактурном пласте, именованном «комментарий», который придавал). Здесь, в пятом номере, безусловно, есть мелодия, но в каких она представлена виде и окружении — это уже «излом», даже «надлом», взять хоть мелодию сопрано в тактах 17−24 (см. пример 53) — и как им приходится «продираться» сквозь звучащих с ними в одном высотном контексте альтов и теноров (несмотря на указанную разницу в нюансе — у женского хора — mp, у мужского — p; но при нахождении теноров на такой высоте всё равно следует ожидать довольно «пробивного» звучания) — это, определённо, специальный выразительный приём — это как тяжёлые шаги, не без «спотыкания» и падений, измученного собственными видениями и сумасшествием персонажа.
В этом номере основную нагрузку несёт метроритмическое начало. Причём метроритм будет «ломаный» (это мы рассмотрим ниже) — может, это сломанный маятник, а, может, — это «сломанный» и никому не нужный (прежде всего, самому себе) человек?
У Смирнова на протяжении всего этого номера — единая пульсация, и его метроритмическая формула, взятая в начале (четырехтакт с последовательностью размеров — 6/8, 5/8, 6/8, 4/8), будет продолжаться с 1 по 24 такты (см. примеры 54, 53), затем появится вновь с такта 53 по такт 56 (см. пример 55).
Есть также и варианты четарехтактов, где три идут в размере 6/8, а четвертый — либо в размере 5/8, либо — 4/8 (см. примеры 56, 57).
Реже всего встречается «размеренный», симметричный метроритм — то есть когда все четыре такта из четырехтактового построения выдержаны в размере 6/8 (такты 29−32 — см. пример 58).
Таким образом, эта преобладающая сокращённость четных тактов подчеркивает то, что «подоспел…срок», что время, заключённое в придуманные человеком механизмы (часы, маятник), как бы постоянно «поторапливает» неминуемый конец — жизни, свободы, желаний.
В этом номере очень важную роль играет партия басов. Они, появляясь после «вступительного эпизода» из 8 тактов, начинают «закольцовывать» всю ткань своим движением, давая основание усмотрения в этом номере некого подобия вариаций на basso ostinato — их «переступание» длится, за исключением первых восьми тактов (см. пример 54), эпизодов с такта 41 по такт 48 (см. пример 59) и с такта 57 до конца (см. примеры 60, 57), всё остальное время.
Что касается наличия некой модели ostinato, то, помимо «явного» вида её (последование ступеней в басу — I-II-III-IV, I-II-III-II (VI) …что мы видим в тактах 9−16 — см. пример 61), есть ещё «скрытый» — как, например, в первых восьми тактах — её можно усмотреть как переходящую от первого такта (тенора) ко второму (альты), от третьего такта (тенора) к четвёртому (альты, сопрано — по полтакта) и т. д. — см. пример 54).
Более того, можно говорить о том, что иногда данная модель «выступает» в сокращённом виде — например, до дихорда, что мы можем видеть в тактах 41−48 (см. пример 59), где за «точку отсчёта» можно принять любую партию — у каждой есть «расшатывание» на малую и большую секунду вниз или вверх, что тоже является элементом «остинатной» модели.
Интересно отметить и такую деталь: данная «модель» присутствует даже в самом окончании пьесы (такты 73−80 — см. пример 62), причём, в партиях и сопрано, поющих параллельными терциями, но, если присмотреться и «собрать» все звуки терций, получается тетрахорд «a-gis-fis-eis» (см. также пример 62) — то есть, основная модель «в ракоходе» — «переставленная» назад, и даже альтов, исполняющих свои «Нет, нет, нет…» без определённой высоты — но с интонацией постепенного понижения — опять же, основная модель, и тоже «в ракоходе» .
Таким образом, данная в самом начале интонационная модель пронизывает всю пьесу — в разных партиях, в разных направлениях, в оригинальном виде и усечённом. Всё это «капает на мельницу» основного состояния, данного в этом номере — бесконечный безрезультатный поиск, механистичность существования, невозможность выбраться на свободу и «разгул» царства иллюзий.
В музыкальном материале иллюзорность — в наличии «вариации на что-то», но точно не понятно, на что (это видно в тактах 17−24 в сопрановом проведении — см. пример 53); в том, как пьеса начинается — см. пример 54 — то есть, если не «высматривать между строк» тетрахорд основной интонации-модели, можно сказать, что пьеса начинается с аккомпанемента — таким образом, темы ещё нет, но уже есть (нетематический) материал, несущий в себе тематическую содержательность.
В пьесе присутствует «эффект подобия» некоторых эпизодов друг другу, что служит скреплению всего номера, установлению своеобразных драматургических «тяготений». Так, по сути своей, такты 1−8 (см. пример 54) — это то же самое, что такты 41−48 (см. пример 59) — отличие таково: в первом случае тенора дают гармонический остов T-D, что создаёт, в данном случае, некую «иллюзию движения»; во втором случае мы уже находимся в ситуации «ритмизованного органного пункта тоники», что очень «сдерживает», не даёт внутренней сжатой пружине разомкнуться — здесь как раз усиливается «подавляющее начало». Такты 65−72 (см. примеры 63, 57)
по материалу очень роднятся с тактами 41−48 (см. пример 59) — тоже преобладает «ритмизованный органный пункт», который служит «порабощению» живого — это «месть» человеку за наивную попытку созданием механизма часов поработить время. Особняком стоит эпизод тактов 57−64 (см. пример 60) — в ужасающем переплетении у мужского хора фа-диез-минорного остова с чередованиями Фа-мажорного трезвучия и Соль-мажорного квартсекстаккорда у женского хора — такой приём под стать «будничному слову» Анненского, которое часто «душит» сильнее слова высокопарного. Такое сосуществование далёких тональных сфер и присутствующая в изложении антифонность — женский хор и мужской хор — вызывают ассоциацию с «раздвоением личности». В этом номере мы видим персонажа, доведённого до состояния крайне нездорового — этого какая-то мучительная агония, сумасшествие, состояния уже не просто кризиса — а уже слома на грани прекращения существования.
В тонально-гармоническом плане «Тоска маятника», на мой взгляд, «кинематографична» — в основном, каждый эпизод краток (восьмитакт)" живёт" в своей тональности — например, такты 9−16 (см. пример 61) — си-минор, в такте 17 (см. пример 53)" без предупреждения" (в этом номере так и происходит, как правило) приходит фа-диез-минор. Бывают и «переходы», но обычно они либо очень кратки — одна модулирующая нота на одной восьмой или четверти — как в такте 8 — см. примеры 54, 61 — «ми» теноров ведёт от фа-диез-минора в си-минор — либо завуалированы и их трудно распознать — как в такте 24 (см. пример 53) — опять же «ми», снова у теноров, в таком же пути, но теперь этот тон не основа аккорда, и его ясность «замутнена» другими голосами. В резких же сопоставлениях тональностей сквозит всё та же жёсткость и острота ощущений, неумолимость внешних обстоятельств, предопределённость трагического конца, которые и составляют основу этой пьесы. Всего за две минуты проходит «калейдоскоп» тональностей, меняющихся восемь раз.
Интересные звукосочетания, образующиеся в тактах 41−48 (см. пример 59), очень точно, на мой взгляд, отражают мотив связи реальности и потусторонности, столь характерный для Анненского и, безусловно, присутствующий в творчестве Смирнова. Музыка его вообще очень часто позволяет исполнителю, а вслед за ним и слушателю, проникнуть «в сферы иные» — этому способствует и особая обертоновая игра, и «пространственность», организующаяся разными средствами, и особое гармоническое наполнение, и метроритмическая структура. Разными средствами, а, вернее, их синтезом, Смирнов вводит нас в сферу «бесконечности». Например, во втором номере рассматриваемого цикла мы имеем дело (в окончании пьесы) с «интонационной бесконечностью» — то есть, по большому счёту, два пентахорда, послужившие основой кластера, это не предел — по этому принципу можно было бы и продолжить. А в окончании пятого номера «Кипарисового ларца» мы видим (наряду с автоцитированием — сходство с пьесой «Век» из концерта на стихи Мандельштама (о соотношении этих двух концертов см. в главе 2) очевидно — см. пример 64) пример так называемой «временной бесконечности» — то есть последний восьмитакт, где эксплуатируется одна и та же ритмическая, интонационная (параллельные терции сопрано), гармоническая формула (наложение функций — тоники и доминанты) — это, по сути, только намёк на то, что будет дальше — а дальше будет всё то же самое (в этом, кстати, суть чистой лирики).
А то, что пьеса заканчивается, — это не что иное как исчезновение звуковой материи из нашего измерения в другое.
Глава 4.6 «Кипарисовый ларец» Дмитрия Смирнова
Концерт для хора «Кипарисовый ларец» написан в 1989 году и посвящён Санкт-Петербургскому камерному хору «Lege Artis» (созданному в 1987 году) и его художественному руководителю Борису Абальяну, сотрудничество с которыми продолжается и по сей день.
В беседах с автором я выяснила, что замысел создания концерта на стихи Анненского появился значительно раньще; то есть, уже приблизительно с 1980 года, когда у Дмитрия Валентиновича появился сборник стихов поэта, кем-то подаренный, у него, видимо, и начала «вызревать» идея создания «Кипарисового ларца» (в 80е написаны концерты на стихи Ахматовой, Вознесенского, Некрасова, Исаакяна, латиноамериканских поэтов, немецких поэтов XVII века, Цветаевой). Сам процесс записи музыки, которая рождалась внутри композитора, занял несколько дней, максимум — неделю (в Репино). На вопрос о критериях отбора стихотворений Дмитрий Валентинович ответил, что всё определяется просто — «есть „тепловой контакт“ или его нет» .
Стоит отметить, что выбор стихотворений получился с «перевесом» в сторону мрачных образов — достаточно уже того, что в концерте, состоящем из пяти номеров, два последних номера — на стихотворения из одного «Трилистника» — «Из старой тетради» — в котором всё наполнено чувствами безысходности, тоски и обречённости.
Примечательно, что Смирнов, в целом прочитывая Анненского совершенно особенно, по-своему, пользуется некоторыми формообразующими — на уровне мелких структур — принципами именно Анненского. Например, «трилистность» улавливается и в трихордовых попевках первого номера, и в структуре мелодики второго номера (вне зависимости от того, куда же будет более верным отнести это стихотворение Анненского — к «Складням» или к «Трилистникам» — у Смирнова его принадлежность тяготеет ко второму варианту) — где всё «сцеплено» из попевок, состоящих из трёх нот, и в трёхтактовых построениях третьего номера, и в трёхпластовой фактуре третьего и четвёртого номеров, и в наличии «трёх основных точек опоры» стихотворного ритма, а также смыслового акцента строки (это роднит «Старую усадьбу» с принципами восточной поэзии) и музыкального — в четвёртом номере.
Важной особенностью этого цикла является то, что на пути от первого номера к пятому прослеживается тенденция нивелирования вокального, мелодического начала и усиления начала ритмического, инструментального, а также усугубления мрачных ощущений после «перелома», произошедшего в конце второго номера, и постепенного crescendo трагических образов и чувств. Таким образом, бетховенский принцип (наследованный Танеевым и не только) — «от мрака к свету» — нам решительно не подходит, потому что от каких-то хотя бы намёков на возможный светлый исход, «набросанных» бегло и нечётко в первом номере и во втором до перелома, мы переходим в уже совершенно ясно очерченную сферу мрачных образов, «фантастической жути», страха и ощущения приближения скорого конца. Здесь же можно добавить, что во всём концерте преобладает минорная сфера, «проблески» мажора являются редко и сквозь пелену «минорного тумана» .
Уже в третьем номере мы погружаемся в «царство теней», «нереальность» становится всё более реальной в четвёртом номере, а в пятом мы видим апогей состояния безысходности. Одновременно усиливается инструментальное начало — с четвёртого номера (так называемый «комментирующий пласт», некое подобие «гитарного» или, может быть, «арфового», «лютневого» аккомпанемента, «захватывает», «поглощает» сдающую позиции мелодическую линию. В пятом номере мелодия «проклёвывается» сквозь плотные заграждения с трудом. Эта «задыхающаяся» мелодия в конце по сути и есть «забитая» и не нашедшая ни ответов на вопросы, ни пристанища, ни счастья душа, обречённая бесконечному страданию (в конце пятого номера мы видим пример так называемой «временной бесконечности — повторение на протяжении восьми тактов одних и тех же терций тонической и доминантовой функций подряд у сопрано, передающаяся от теноров к басам «разложенная квинта» тоники, как раз наслаивающаяся на доминантовую по функции терцию сопрано). Даже многократное повторение альтами «Нет…» не символизирует желания закончить пребывание в этом ненормальном состоянии, а значит, скорее, уже какую-то усталость борьбы, где повторения слов как «болванки» — просто уже ставшее привычным действие без придания ему какого бы то ни было значения.
Концерт Смирнова «Кипарисовый ларец» занимает, на мой взгляд, особенное место в творчестве композитора. При всей присущей ему (Смирнову) филигранной технике «отделки» создаваемого им мелодического материала, в этом концерте она превосходит все ожидания. То, с каким вниманием и тщательностью «прорисованы» мельчайшие детали, позволяет говорить об этом концерте как о поистине музыкальном шедевре в «тончайшей оправе» .
Главной мыслью этого концерта я бы назвала «вечный безрезультатный поиск внутри себя». При этом, происходит сплетение различных образов, чувств и состояний.
Одним из ярчайших образов, которые использует Смирнов (кстати, не только в концерте «Кипарисовый ларец») — это Время и Часы (с маятником как символом мерного отсчёта отпущенного времени), причём наделённые человеческим обликом (здесь, «Кипарисовом ларце», маятник — «маниак», который «с злобным рвеньем „так-то, так-то“ повторяет…», а в концерте на стихи Набокова — в первом номере — «Сон» — «а вверху часы стенные с бледным человеческим лицом поводили маятником медным, полосуя сердце мне концом» — то есть мы видим, что Смирнов, скорее всего, и неосознанно, однако, выбирает такие стихотворения, где часы присутствуют не просто как отдалённый символ, но как действующее, причём достаточно агрессивно (хоть это всё происходит и в воображении или во сне), лицо). Особенностью Маятника в «Кипарисовом ларце» является то, что он, помимо агрессивно настроенного, ещё и страдающий персонаж, хоть он и пытается мстить человеку, который хотел его себе подчинить — однако, здесь мы имеем дело с формой взаимозависимости, не сулящей блага ни одному из вовлечённых в неё членов.
Но есть в стихотворениях «Кипарисового ларца», отобранных Смирновым, и такие, где Время присутствует как бы косвенно, не прямолинейно, — например, в первом хоре, «Мечтанье», есть указание на время возможного действия — «лунная ночь мая», в третьем номере — «Призраки» — «в тумане холод… раны…перед зарей…», что и понятно, ведь не средь бела дня появиться призракам! В четвертом номере «Старая усадьба» есть «временной намек» — но не как указание на время действия («только страшно — месяц за год у луны»), а как выражение ощущение страха быстроты течения времени, хотя, конечно, есть и слова «встанет месяц…», что, в общем-то, и не кажется удивительным, потому как временной промежуток действий или возможных действий в выбранных стихотворениях — это от заката до рассвета — то есть то самое время, когда ночь приходит ко власти. Однако, если мы будем говорить о втором номере, здесь уже есть и достаточно туманные определения времени «тусклая рань», есть и нечто абстрактно-символически-весомое «и минуты ее на счету», «как минуты — часы нетаимой и нежной красы на ветвях», так есть и очень четкие указания времени («стрелка будет показывать семь») — хотя здесь, при всей четкости и у Анненского и вслед за ним — при еще большей четкости и подчеркнутости этой цифры у Смирнова — три партии в последней фразе повторяют это «семь» аж 9 раз — еще нет того сверхтрагического ощущения Времени и его преподнесения, которое мы видим в пятом номере «Тоска маятника» (о чём уже было сказано выше). Однако, дальнейший стихотворный анализ мы опустим, считая достаточным указание на некоторые параллели в творчестве поэтов и выборе образов композитором).
На мой взгляд, в этом хоровом концерте, как ни в одном другом (вернее, в большей степени, чем в других), для Смирнова текст — скорее повод для написания музыки, нежели цель. Если для сопоставления взять концерт на стихи Цветаевой, это ощущение и подтверждается, и усиливается.
Не прибегая к грубым сравнениям, хотелось бы использовать приём некого сопоставления характерных для Цветаевой и Анненского особенностей, которые отображены Смирновым. Так, у Цветаевой в стихах больше прямых и понятных обращений (в отличие от Анненского, у которого, к примеру, в стихотворении «Старая усадьба» строки «Взять не можешь, а тревожишь, старина», «Так иди уж» адресованы не то воображаемому «я», не то еще какому-то третьему лицу), как, например, «Помолись, дружок, за бессонный дом, за окно с огнем!» — здесь каждый читающий понимает — вот, это адресовано мне! — и этот императив настолько очевиден, прям и ясен, что чуть ли буквально не встаешь с места и чуть не идешь на этот призыв. Вообще у Цветаевой (и все это у Дмитрия Валентиновича в концерте проявлено) часто действие происходит от первого лица, часто ее стихи — исповедь, причем — кричащая и вызывающая, обращенная к читающему с ясным призывом к сопереживанию и состраданию. Часто эта исповедь острая и резкая, как зубная боль, открытая, откровенная, иногда жесткая (от этого не перестающая быть исповедью). У Анненского же (взять хоть «Трилистники») часто мы не понимаем точно, от какого лица идет «повествование», кто действующее лицо, к кому обращение, кто наблюдатель — это как бы остается на усмотрение читателя, но он никогда не проверит — правильно ли он это истолковал. Так, на примере «Старой усадьбы», можно сказать, что иногда и повествователь, и наблюдатель, и уже как будто бы и читатель слиты воедино, будто это уже какой-то один организм. Многие же состояния этого «организма» так завуалированы или содержат в себе такой «коктейль», что одним словом это и не охарактеризовать. Здесь нет цветаевской открытости, откровенности и неприкрытости; здесь тоже есть боль… но она дана, на мой взгляд, более внутренне и с нежеланием из этой боли выходить, со стремлением не расставаться с болезненными переживаниями и страданием (что ясно подчёркнуто окончанием пятого номера). По моему мнению, Цветаева всегда призывает к сопереживанию (тем самым вызволяя это страдание) — и это есть и в музыке Смирнова. А Анненский зачастую предпочитает «вариться в собственном соку», впрочем, не всегда это будет страдание — как, например, в стихотворении «Струя резеды в темном вагоне». Тем не менее, у Смирнова где-то в большей, а где-то в меньшей степени музыкальный материал и все целое не совпадают с тем, что во главу угла ставит Анненский. У Смирнова, в целом, текст Анненского становится поводом для написания музыки и страстной, и возвышенной одновременно, и увлекающей за собой — силой внутреннего богатства ощущений, переданных и пластичной и гибкой (как в первом номере) или механистично-резкой, изломанной (как в последнем номере) мелодикой, и изысканностью гармонических сопоставлений и модуляционных ходов (как во втором номере), и резкими, укладывающимися в очень небольшой временной промежуток, граничащими с истерией, динамическими прорывами (как в первом номере), и с быстрыми гармоническими сменами (как в третьем номере), и с четким ритмическим остинато с нерегулярными, однако, вставками некоторых голосов (как в четвертом номере), и жёстким метроритмом, «съедающим» мелодическое начало…
Подводя некоторый итог, можно сказать, что концерт «Кипарисовый ларец» — очень богатое по образному наполнению сочинение, захватывающее и исполнителя, и, при должном выражении, слушателя, открывающее потайные глубины живых чувств, которых так не хватает в современной повседневной жизни.
Заключение
Человек, его чувства, переживания, внутренний мир — что может быть интереснее и выше этого? Только человеческие отношения, взаимодействия, общение разными способами и в разных сферах. А также общение человека со своей внутренней сущностью, попытки понять себя — через общение с другими людьми, в том числе. Музыка Дмитрия Валентиновича Смирнова — это запись опыта очень глубоких и сильных переживаний. Всякий, кому посчастливилось прикоснуться к этой музыке (в данном случае я имею в виду исполнителя), испытает всю ту гамму чувств, которая заложена в неё (музыку). А мудрый и талантливый исполнитель сможет донести до слушателя всё то, что сам испытывает во время приобщения к этому искусству.
В данной работе я попыталась проанализировать, каковы же средства, которыми достигается такое достоверное отображение Смирновым эмоциональных состояний, не входящих в разряд «обычных», на примере хорового концерта «Кипарисовый ларец» на стихи Анненского.
На примере этого концерта видно, что в творчестве Смирнова сочетаются и некоторые традиции (так как он многое в себя «впитал», как и любой настоящий художник), и многие новаторские приёмы. У Смирнова свой уникальный стиль, в котором и традиции (приёмы изложения — где-то — в ренессансном духе, где-то — типичные для русской хоровой классики; где-то — строгая хоральность, аккордовая фактура, моноритмия), и новаторство (взаимосвязь алеаторических элементов с неалеторическими, богатство темброво-регистровой палитры, полифонизация пластов хоровой фактуры, сочетание гокетированной техники, в XIII веке бывшей уже «общеупотребительной» с гармонизацией века XX) сочетаются именно под углом мировоззрения Дмитрия Валентиновича — очень «острого» и сильного. Это и выбор и реализация текстов, преимущественно поэзия Серебряного века русской поэзии, а также зарубежная поэзия, в которой и светлое, и грусть, и ярость — взять хоть «Сюиту на стихи шотландских и английских поэтов» — всё преподнесено очень сильно, я бы сказала, «экстремально». Здесь хочется ещё раз процитировать М. Цветаеву — «чувство начинается с максимума, а у великих людей и поэтов на этом максимуме остаётся» (7) — я считаю, что это очень верно и точно соответствует Смирнову как Личности и Музыканту.
Безусловно, ни одна письменная работа не может сравниться с опытом непосредственного контакта с музыкой, однако, я выражаю надежду на то, что некоторое «приоткрытие завесы», коим часто являются подобного рода исследования, не только покажет способности автора его (исследования) к анализу и синтезу, но и ещё взрастит интерес к глубокому, последовательному и тщательному освоению и других сочинений чистого лирика современного хорового искусства Дмитрия Валентиновича Смирнова.
Библиографический список
1. Иннокентий Фёдорович Анненский. Кипарисовый ларец 1910 — Библиотека поэта, im WERDEN-VERLAG, Москва-AUGSBURG, 2001, 70 с.
2. Иннокентий Анненский. Стихотворения. Трагедия. Переводы — Библиотека классической поэзии, Москва, изд. «Олма-пресс», 2000, 432 с.
3. Н. А. Бодрова. Лирика И. Ф. Анненского. Материалы к урокам в 11 классе // «Литература» изд. «Первое сентября», № 36/2004.
4. У. Г. Домогацкая, Ю. Н. Симоненко. — С. Маковский. Иннокентий Анненский.
5. Т. А. Чистякова. Поэт Иннокентий Анненский и Бельский край // Я не устану летопись листать. — Белый, 2007. С.45−52.
6. О. Гладкова. Дмитрий Смирнов: музыкант и личность // Русское самосознание: Философско-исторический журнал. — 2002, № 9.
7. М. И. Цветаева. Поэты с историей и поэты без истории.
8. И. И. Подольская. Из неопубликованных писем Иннокентия Анненского. Вступительная статья.